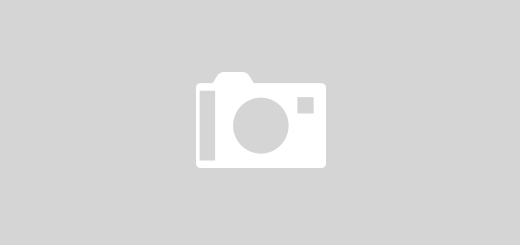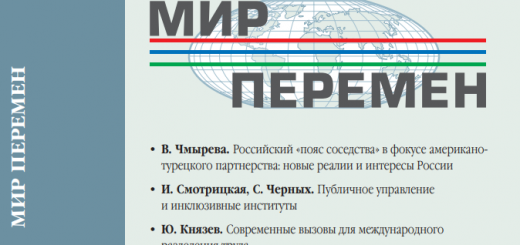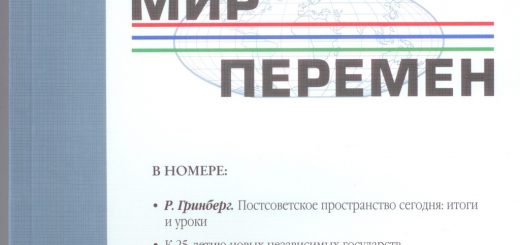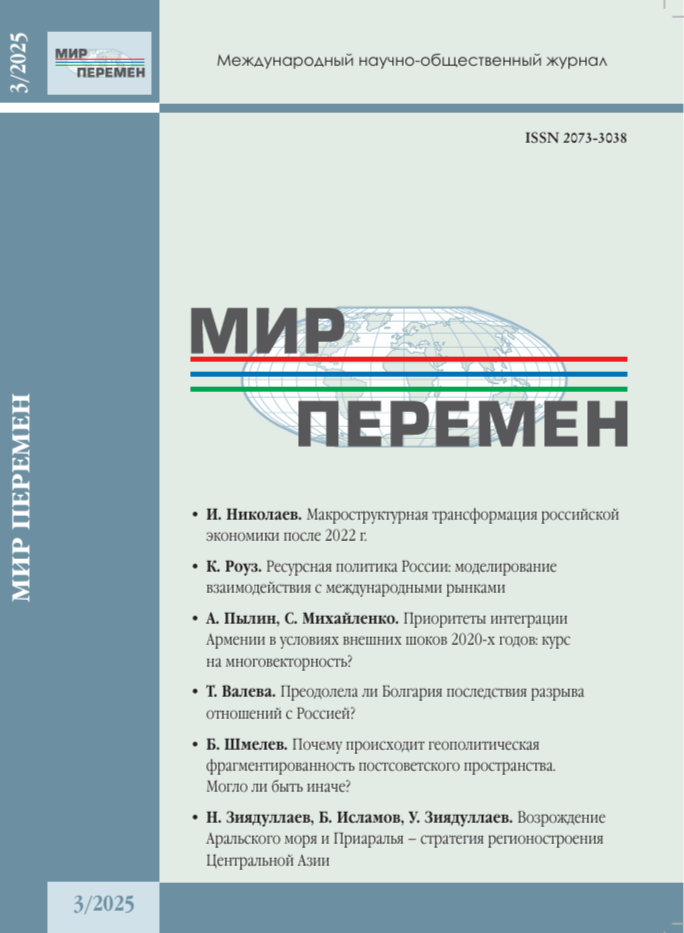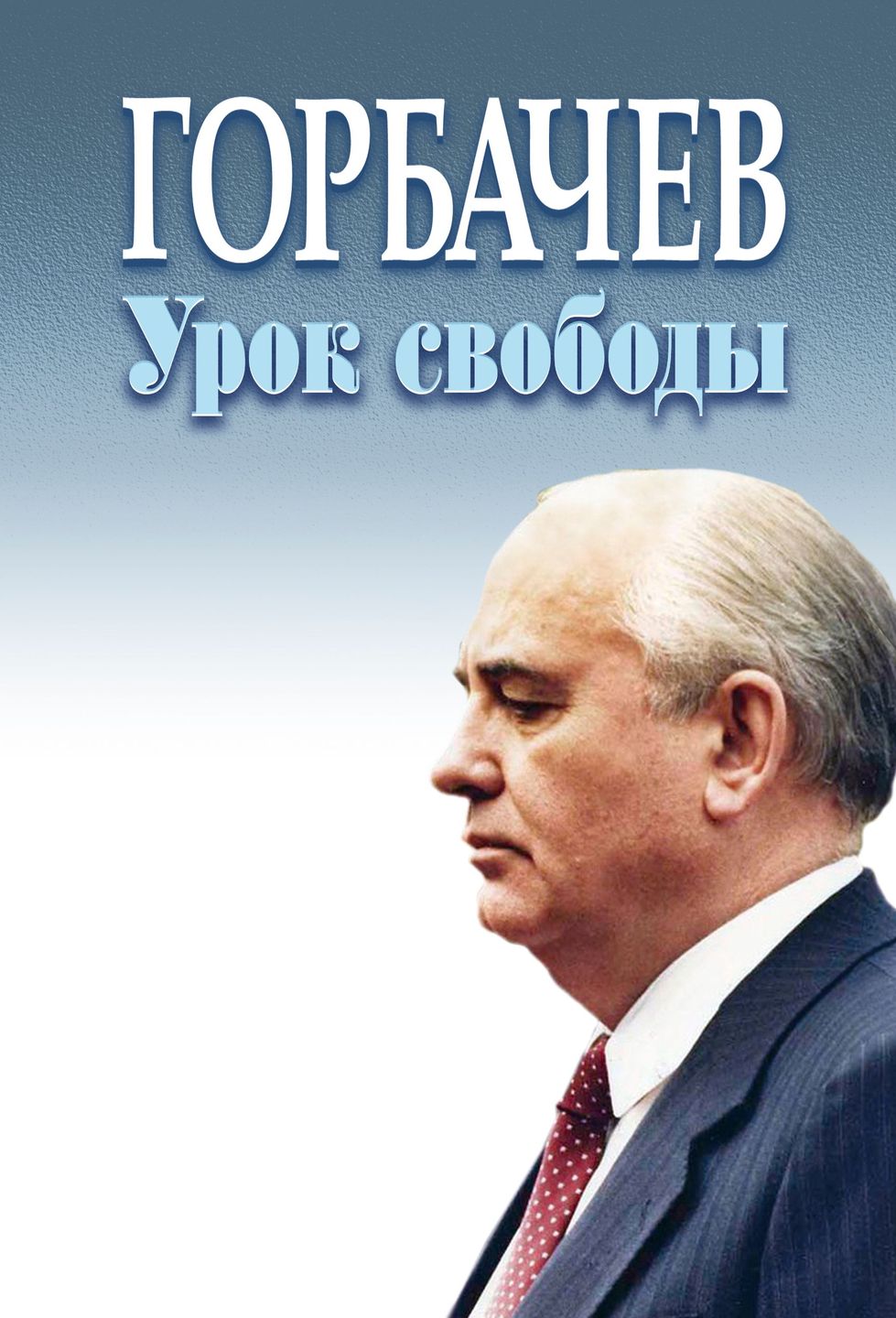Вопросы о важном. Часть 2.
Способны ли россияне преодолеть поклонение самодержавию и признать безальтернативность разделения властей?
А. Бардин
Исходя из ответа на предыдущий вопрос можно констатировать, что поклонение самодержавию и прочим авторитарно-патерналистским формам правления в России уже преодолено на рациональном уровне сознания. Практически ежедневно каждый российский гражданин при принятии тех или иных жизненных решений, которые у него появились благодаря перестройке и последующим реформам 1990-х годов, понимает свои права даже на подсознательном уровне. Однако на эмоциональном уровне такое преклонение действительно сохраняется. Это можно наблюдать по результатам репрезентативных социальных опросов.
Весь драматический опыт XX в. в истории России показывает, что российский народ является одним из самых свободолюбивых и осознанных интересантов идеи создания свободного гражданского общества. Только так можно объяснить природу трех крупномасштабных революций, последней из которых можно считать перестроечные политические реформы, завершенные сворачиванием советской власти в России в 1991 г. И до XX в. история России знает прецеденты вооруженного гражданского неповиновения, ярчайшими из которых стали Пугачевское и Декабристское восстания.
Важнейшей проблемой принятия демократических идей в России на эмоциональном уровне является тот фактор, что, когда они происходили, государство и общество всегда переживали огромные потрясения.Революция 1905 г. не достигла своей цели построения в России конституционной монархии. Февральская революция и последующая за ней Октябрьская привели истощенную Первой мировой войной Россию к чудовищной Гражданской войне. Перестроечная революция привела к огромным издержкам из-за распада СССР и сложнейшей политической и экономической трансформации во всех пятнадцати республиках, которая для большинства представителей взрослого поколения стала травмирующей. В Российской Федерации это сопровождалось утратой статуса сверхдержавы, что закономерно на какой-то период, после восстановления управленческой системы в 2000-е годы, привело к росту реваншистских настроений.
Главное, что служит в современной России неприятию демократических ценностей, – отсутствие реальной инициативы из «колыбели» идеалов свободы принять нашу страну в ряды общей западной цивилизации. Несмотря на беспрецедентную открытость нашей страны миру во времена правления М. Горбачева и Б. Ельцина, западные страны не предоставили ей, находящейся в сложном транзитном положении, дорожной карты для интеграции в общеполитическое пространство. Блок НАТО, по итогам победы в холодной войне, взял курс на сдерживание России из инструментария realpolitik, чудовищные плоды чего мы видим сегодня. Однако, с учетом кардинальных внутриполитических изменений в США, связанных с приходом новой администрации президента Д. Трампа, а также очевидного различия видения будущего России ее преобладающим средним классом и наиболее реакционной элитой, в краткосрочной исторической перспективе возможно новое сближение России и Запада на почве демократических ценностей.
Артем Борисович Бардин – научный сотрудник Музея Бориса Ельцина (г. Екатеринбург).
Ю. Батурин
Вопрос поставлен некорректно. Не согласен с утверждением, заложенным в вопрос.
Юрий Михайлович Батурин – член-корреспондент РАН, летчик-космонавт России (Москва).
Б. Гетта
Да, россияне способны преодолеть поклонение самодержавию и признать безальтернативность разделения властей. И доказательство тому – европеизация молодых городских (и не только городских) поколений России. Ведь, за исключением трех периодов в XX в., Россия всегда жила под гнетом автократов, но стремление к свободе объединяет все народы.
Бернар Гетта – французский журналист, член Европарламента (Париж).
Э. Глезин
Способны, но не сразу. У каждого народа свой возраст гражданского созревания.
В этом смысле Франция, пожалуй, является наиболее наглядным примером. Сейчас там Пятая республика. После первой революции (1789) и издания «Декларации прав человека и гражданина» многие тоже считали, что возврата к старому нет. Однако за этим последовала реставрация монархии. Многие французы тогда всплескивали руками в отчаянии: «А как же свобода, равенство и братство? Неужели наш народ навсегда вернулся в стойло, едва вырвавшись на волю?» И вот в 1830 г. грянула вторая революция. И вслед за ней на троне вновь утвердилась новая династия. Отгремела революция 1848 г. Но и тут верх взяло стремление к «железной руке» монарха. И только революция 1870 г. окончательно упразднила монархию.
Лишь с четвертой попытки французам удалось перейти к республиканской форме правления, включающей и принцип разделения властей на исполнительную, судебную и законодательную. Оказалось, что у французов нет никакой «генетической предрасположенности» к деспотии. Как нет ее и у всех других наций. История всех стран и народов наглядно демонстрирует, что никому еще не удавалось добиться всего и сразу. Как известно, «крот истории» роет медленно, но верно.
Историческая эволюция взаимоотношений общества и власти во многом напоминает отношения ребенка и главы семейства. Дети сначала буквально обожествляют родителей и во всем им подчиняются.
Так же как и народы на начальном этапе своего развития. Позднее, через конфликты с предками, дети самоутверждаются и заявляют о своей самостоятельности. Позже уже родители попадают в зависимость от отпрысков. Через революции и социальные конфликты народы заставляют правителей считаться со своим мнением. И так до тех пор, пока гражданское общество не начнет контролировать действия власти и ее регулярную сменяемость на демократических выборах.
Недавняя история человечества наглядно подтверждает такую эволюцию. Со временем число демократических стран только увеличивается. Лет 300 назад ограниченных монархий были считанные единицы. К концу XIX в. их стало подавляющее большинство. В начале XX в. демократические страны можно было пересчитать по пальцам.
Сегодня, в начале XXI в., по пальцам мы уже можем пересчитать тирании и диктаторские режимы. Эволюция (хотя и со своими провалами и изгибами) совершенно очевидна. От нее не отгородиться никакими китайскими или берлинскими стенами. Ветер истории дует в демократические паруса. Вектор исторического прогресса направлен в сторону установления контроля общества над властью.
Эдуард Ефимович Глезин – кандидат исторических наук, ныне гид по Майами (г. Майами, США).
Ю. Голанд
Поклонение самодержавию у россиян давным-давно исчезло. Не говоря уже об отношении части интеллигенции, которая во второй половине XIХ века начала готовить террористические акты против царя и представителей власти (народовольцы, партия эсеров). Большинство народа после убийства демонстрантов, пришедших к царю 9 января 1905 г., потеряло веру в него. Об этом свидетельствовали революции 1905 и 1917 г. Сталин действительно создавал культ личности исходя из собственного представления о вере большинства народа в лидера страны, которая выражалась фразой «всякая власть от бога». Однако при этом пришлось прибегнуть к массовым репрессиям, чтобы подавить открытое сопротивление подобным настроениям. Доверие к нему поднялось после победы в войне, хотя и тогда репрессии не прекратились.
В послесталинское время никакого преклонения лидеру уже не было, но было согласие жить с властью, раз она обеспечивает какой-то уровень жизни и не допускает войны, что выражалось фразой «лишь бы не было войны». Время М. Горбачева показало всю бессмысленность ссылок на якобы традицию преклонения перед самодержавием, хотя после прихода Б. Ельцина пропагандисты на основании своих корыстных интересов стали говорить о царе Борисе вопреки настроениям большинства населения. При В. Путине пропаганда также пытается создать ареол безгрешного вождя, не гнушаясь различными измышлениями. Какое-то время они воспринимаются с доверием большинством, но, как известно, факты – упрямая вещь и постепенно настроения меняются.
Что касается разделения властей, то это более сложное понятие. Действительно, большинство плохо понимает необходимость создания различных противовесов исполнительной власти. Оно готово примириться с тем, чтобы вся власть концентрировалась в одних руках при наличии формальных иных институтов, питая иллюзии относительно того, что такая организация власти способна обеспечить их интересы, но это далеко не то же самое, что преклонение перед самодержавием. В то же время стоит отметить, что и демократия в развитых странах демонстрирует в последнее время свою неэффективность.
Юрий Маркович Голанд – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН (Москва).
А. Голдовский
Самодержавная форма правления в России ушла в прошлое более ста лет назад. Прощание с этой архаичной формой правления в начале XX в. прошло весьма безболезненно в том смысле, что большинство населения не испытывало никакого сожаления при переходе к республиканской форме государственного управления. В результате Февральской революции и в условиях разгорающейся Гражданской войны, когда в России нарастала идеологическая поляризация, монархический фланг оказался удивительно слаб. Даже представители Белого движения не были едины в этом отношении, ведь многие из них были сторонниками республики в том или ином виде. В конце концов, еще задолго до 1917 г. монархия дискредитировала себя как институт, а фигура царя была десакрализирована.
Очевидной становится историческая параллель с 1991 г., когда коммунистическая партия растеряла авторитет и легитимность в глазах народа, а крушение режима не привело ни к каким массовым выступлениям в его защиту. Учитывая вышеизложенное, трудно говорить о наличии у россиян сложившейся устойчивой традиции поклонения самодержавию или даже патерналистской форме отношений государства и общества.
Для признания безальтернативности разделения властей придется закрыть глаза на последние четыре века не только российской, но и мировой истории. Либеральный капитализм, где и реализована идея разделения властей, является исторической аномалией, осуществленной исключительно в Западной Европе и на территориях, которые можно смело включить в состав западноевропейской цивилизации (Северная Америка, Австралия, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Страны «второго мира», к которым можно смело отнести и СССР/Россию, предпринимали попытки пойти по тому же пути (если говорить об отечественном опыте), а то и путем полного копирования западных моделей и институтов. Эти попытки сегодня пристально изучаются исследователями, обнаруживаются все новые причины их провала.
Выступает ли большинство населения РФ против таких вещей, как дееспособный парламент, свободная пресса, независимые суды? Очевидно, что нет. Тем не менее историческая традиция, заложенная еще в Московском царстве и предполагающая наличие всемогущей исполнительной власти, назначение лояльных, а не компетентных должностных лиц, допущение и сокрытие коррупционных и социально несправедливых моментов ради сохранения стабильности системы, никуда не исчезла. Отсюда следует вывод: демократическое обновление России не может начаться снизу, как и в 1980-е годы. Этот процесс может быть запущен только властью.
Алексей Александрович Голдовский – заведующий научно-просветительским отделом Государственного музея политической истории России (г. Санкт-Петербург).
А. Грачев
Обвинения, претензии в отношении «русского человека» (что он преклоняется перед самодержавной властью) необходимо как минимум нюансировать. Во всяком случае, их не надо относить на счет некоей врожденной, чуть ли не генетической, присущей именно ему особенности. Иначе придется предъявлять аналогичные претензии немцам – за нацизм и обожание фюрера, итальянцам – за фашизм и дуче.
Как и другие народы, русские – продукт, можно сказать, заложники особенностей своей предыдущей истории (и географии). В отличие от других европейцев, они к тому же еще и азиаты (скифы, как писал А. Блок). И это не только географическое или этническое, но и культурно-политическое определение. Напомню, даже самый «европейский» из русских царей, Петр I, «тащил» Россию в Европу свирепыми азиатскими методами и реформами.
Кроме того, несколько веков ордынского господства над Россией не только отсекли страну от календаря европейской Реформации и школы разделения властей и ограничения самовластья самодержцев. Французы избавились от своего монарха больше 200 лет назад, не говоря об англичанах, которые, отрубив голову очередному королю, ограничили власть всех последующих парламентом за несколько столетий до этого.
В России же даже после свержения монархии она была де-факто возрождена в виде самодержавного правления никем не избранной партии и ее несменяемых выборами вождей. Последний пример политической смены верховного правителя в России – добровольная отставка М. Горбачева. Б Ельцин, после того как расстрелом парламента в 1993 г. восстановил монопольное правление президента, уже передавал власть, как принято династическими правилами, избранному им наследнику. А всенародно избранный В. Путин подстраховался от сюрпризов, связанных с конкуренцией на президентских выборах, изменением Конституции.
Российскому обществу и его гражданам, которые до сих пор не прошли через опыт выборов с заранее неизвестным результатом, еще предстоит это сделать. Разумеется, ситуация почти перманентной войны (сначала Гражданской, потом классовой – с «врагами народа», затем Второй мировой, а вслед за ней – холодной), из которой за свою историю почти не выходило российское общество, оправдывала фактически непрекращающееся чрезвычайное положение, которое как минимум откладывает демократическое «обучение» в очередное неопределенное будущее.
К этим неблагоприятным внутриполитическим факторам следует добавить и изменившийся в последние годы внешнеполитический контекст. Если раньше, в эпоху холодной войны, политические ориентиры западной демократии, включая плюрализм, свободные выборы и свободную конкуренцию власти и оппозиции, рассматривались не только внутри демократически настроенных слоев советского общества как неоспоримые универсальные ценности, то к настоящему времени ситуация существенно изменилась.
Не только во многих странах бывшего «третьего мира» они не воспринимаются как желательные ориентиры. Их элиты, лидеры и даже общественное мнение все чаще склоняются не в пользу имитации западных моделей, а предпочитают режимы «сильной руки», централизацию власти в руках авторитарных лидеров и воспринимают политическую оппозицию как агентуру Запада, обслуживающую его интересы. В связи с этим можно упомянуть не только азиатских гигантов – Китай, Индию и Турцию, – но и рост популярности праворадикальных и даже неофашистских сил в странах Западной Европы, и опасную эволюцию, и рост популярности таких сил и лидеров в Европе и даже главном оплоте западного мира – США, – имея в виду Д. Трампа.
Андрей Серафимович Грачев – кандидат исторических наук, был пресс-секретарем М. Горбачева, писатель (Париж).
Д. Драгунский
Полагаю, россияне не способны преодолеть поклонение самодержавию и признать безальтернативность разделения властей. У каждой страны есть свой, так сказать, политический генотип. Наш «самодержавный генотип» сформировался соединенными усилиями русских князей (прежде всего Андрея Боголюбского), монгольских ханов, Ивана Грозного, Петра Великого и т. д. вплоть до И. Сталина. То, что возрастало восемь с половиной веков, тридцать пять поколений, вряд ли поколеблют 10–15 лет перестройки и реформ.
Спешу подчеркнуть, что это ни хорошо, ни плохо. Россия встроена в мировую цивилизацию. Но мировая цивилизация – это не только Европа и США. Это еще и Китай, Индия, исламский мир, Латинская Америка и Африка – регионы с весьма специфической политической традицией, где идея разделения властей и обязательной сменяемости лидеров либо вообще не укоренилась, либо носит, скорее, декоративный характер.
Денис Викторович Драгунский – писатель (Москва).
С. Дубинин
«Русский мир» в постсоветский период объективно был обязан сделать выбор ответа на вопрос о природе своего исторического самосознания, о том, какова наша жизненная установка сегодня и куда нас должен вести путь в будущем. Приходится констатировать, что оба указанных выше вклада в развитие «русского мира», в «российскую цивилизацию» были переосмыслены большинством россиян прямо противоположным образом и были ими отвергнуты. Соблазн ориентации на имперские традиции русификации исторического пути оказался чрезвычайно силен.
Разумеется, речь идет об образованной части общества, сформировавшегося на основе русскоговорящего населения постсоветских государств. В этом общественном сегменте очевидно поколенческое разделение. В среде образованных людей – жителей Российской Федерации в возрасте до 40 лет – ориентация на стандарты демократической организации государственного устройства на порядок выше, чем среди людей более старшего возраста. Именно поэтому такое большое значение придается сегодня в России работе с молодежной частью (школьники и студенты) наших соотечественников.
Сергей Константинович Дубинин – доктор экономических наук, доцент, председатель Центрального банка РФ (1995–1998) (Москва).
В. Кувалдин
Не вижу у моих соотечественников какой-то неодолимой внутренней тяги к самодержавию. По-моему, они вполне способны взять на грудь и вынести груз свободы и демократии. Нужно только тщательно продумать и апробировать дизайн соответствующих институтов. И не торопиться, дать людям возможность постепенно осваиваться в новой реальности.
Виктор Борисович Кувалдин – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва).
А. Матлин
Вопрос подразумевает изначальное утверждение, что россияне в основной своей массе комплементарны системе «твердой руки», а разделения властей в современной России не сложилось. Таким образом, как историку, мне будет сложно на него ответить. С одной стороны, вопрос уводит меня в политологическую дискуссию, если не сказать политическую футурологию. С другой – я не согласен с утверждением.
Вопрос о способности российского общества к принятию демократических принципов организации власти остается одним из ключевых в дискуссиях о политическом развитии страны и требует глубокого исторического контекста, который вряд ли можно уместить в этом формате ответа на вопросы.
Исторически в России сформировалась этатистская политическая культура, характеризующаяся высоким уровнем персонификации государственной власти. Такая традиция, уходящая корнями в первую очередь в византийское наследие, создала устойчивую модель восприятия государства как сакрального института, что существенно затрудняло институционализацию принципа разделения властей. Особенность такой политической культуры заключается в том, что только сама власть может запускать процессы собственного разделения.
И движение к разделению властей было, при этом оно инициировалось властью исключительно в моменты кризисов, как и в перестройку, поскольку к руководителям государства приходило понимание эффективности данной реформы только в кризисной политической и социально-экономической ситуации, что логично (зачем что-то менять, если и так все хорошо работает). Другое дело, что русскому разделению властей почти всегда драматически не везло. Это справедливо, как к «крестоцеловальной записи» В. Шуйского в Смутное время (и более ранним подвижкам в эту сторону со стороны Б. Годунова), так и к Великим реформам Александра II, предвосхищенным проектами Александра I, последовавшим за поражением в Крымской войне. И в том, и в другом случае новой политической ситуации не суждено было утвердиться из-за физического устранения основных проводников этой политики от власти.
Лишь по итогам Первой русской буржуазной революции (1905-1907, очередной кризис) самодержавие в России фактически закончилось и начался небывалый десятилетний период не всегда мирного сосуществования в России двух властей – законодательной и исполнительной. При всей критике дуалистической монархии, при справедливом сетовании на слабость Думы, нельзя отрицать того факта, что власть более не была сосредоточена в одних руках и законы нельзя было больше принимать росчерком пера одного лица. У этой системы был потенциал для развития, однако во взаимоотношениях императора и Думы изначально был заложен конфликт: разделение властей не было единолично «даровано» властью обществу, а вырвано обществом из рук власти. И общество хотело большего. Фактически можно говорить более чем о десятилетнем «конституционном кризисе» (по итогам Первой русской революции в Российской империи по ряду причин, в том числе семантических, официально не была принята Конституция, однако «Основные законы» империи, принятые в 1905–1906 г., фактически соответствовали тому, что можно назвать первой русской Конституцией) в Российской империи, тихо тлевшем даже после «третьеиюньского переворота» 1907 г., который закономерно перешел в стадию завершения процесса буржуазной трансформации в феврале 1917-го.
Казалось, что принцип разделения властей окончательно победил и ничто не помешает его прочному утверждению. Однако с приходом к власти большевиков в конце революционного 1917 г. закончилась и первая реальная попытка осуществления данного принципа на практике. Создавалось государство нового типа, со «Всевластным Советом» (коллективным императором) при «диктатуре пролетариата», где прямо заявлялось о вредности разделения властей. «Вся власть Советам!» – это ведь еще и про это.
Формально декларируемое разграничение полномочий между Советами и советским правительством в Конституциях 1936 и 1977 г. вряд ли можно характеризовать как советское разделение властей. По окончании Гражданской войны и в результате установления однопартийной системы тяготевшее по форме к парламентской республике советское государство оказалось фактически поглощенным бюрократическими структурами коммунистической партии. Фактически Советский Союз очень скоро перестал быть советским, став «партийным».
Лишь трансформации времен перестройки вновь открыли путь сначала к попытке реализации полновластия Советов, а в последующем (осознав недееспособность такой системы) – к разделению властей, которое установилось в России в результате драматических событий 1993 г. Как бы ни относиться к конституционному кризису начала 1990-х в России и способам его разрешения, нельзя отрицать того факта, что мы уже более чем 30 лет живем в условиях наличия институтов разделения властей.
Ведь разделение властей – это не только эмоции по поводу наличия или отсутствия субъективной справедливости в государстве. В первую очередь это сами функционирующие институты сдержек и противовесов. А они в России появились и, несмотря ни на что, уже сравнительно долго работают, пусть и не так, как кому-то, наверное, хочется. Такого не было никогда в нашей истории. Это настоящий феномен, который, несмотря на все закономерные консервативные трансформации последнего десятилетия, нам стоит ценить и оберегать. Таким образом, принцип разделения властей в России сформировался.
При этом очевидно, что народ не всегда «безмолвствовал». Вся наша история показывает, что народ России, так же как и власть, всегда реагировал на кризисы, поддерживал власть в моменты необходимой консолидации общества перед угрозами или последствиями распада государственности или же, наоборот, наказывал власть за запоздалые и непродуманные реформы.
Мне, кстати, очень не нравится, когда говорят, что «никто в 1991 г. не вышел защищать Советский Союз». Это, вероятно, справедливо, если понимать под СССР его вариант в 1988 г. Тут – да, кроме ГКЧП и Н. Андреевой, никто на защиту не встал. Но с 1989-го в Союзе вообще-то произошли кардинальные институциональные изменения, связанные в том числе с вводимым принципом разделения властей. Разве в марте 1991 г. народ не пришел на референдум о «Сохранении обновленного Союза»? Разве народ не встал на защиту этого обновления в дни путча ГКЧП, который сорвал подписание нового Союзного договора? Разве все забыли, что Беловежские соглашения и создание СНГ воспринималось в первые недели не как распад СССР, а как создание нового децентрализованного Союза? Лишь в 1992 г. пришло полное осознание случившегося, и тут народ точно не безмолвствовал. Чуть гражданская война не началась из-за событий в Москве в октябре 1993 г.
Обращаясь к современности, важно понимать, что опросы демонстрируют амбивалентность массового сознания россиян. С одной стороны, согласно данным ряда социологических исследований (в целом при разных формулировках определения «сильной руки», в гипотетически разных политических условиях), более 50% респондентов высказываются за сильную централизованную власть. С другой стороны, те же исследования показывают растущий запрос на справедливость, законность и подотчетность власти, особенно среди городского среднего класса и молодежи.
Существенное влияние на формирование политических предпочтений оказывает и травматический опыт 1990-х годов, который в массовом сознании ассоциируется с демократизацией и либерализацией. Это создает когнитивный барьер у части общества для восприятия демократических институтов как эффективных механизмов управления. При этом россияне склонны поддерживать авторитарные практики не в силу идеологических предпочтений, а из-за неверия в эффективность демократических институтов в российском контексте.
Тем не менее постсоветские поколения демонстрируют более выраженную поддержку институциональных, а не персоналистских форм организации власти. Таким образом, можно предположить, что российское общество на современном этапе находится в состоянии вызревания институциональной формы организации власти из традиционной патерналистской модели. Потенциал признания ценности разделения властей, как и сами структуры разделения властей, существует. Однако эффективная реализация данных структур требует длительной эволюции и формирования соответствующего позитивного опыта функционирования.
Александр Дмитриевич Матлин – заместитель руководителя лаборатории современной истории России МФСЭПИ им. М. С. Горбачева (г. Санкт-Петербург).
В. Мироненко
На вопрос, способны ли россияне преодолеть поклонение самодержавию и признать безальтернативность разделения властей, трудно и даже, по-моему, невозможно ответить. Ведь такой возможности у россиян никогда не было. В совокупности, что, впрочем, не исключает опыт небольших социальных слоев и групп, им историей не предоставилась возможность ощутить преимущества свободы и собственной ответственности за то, в каких условиях им приходилось жить. В истории остались лишь две попытки сделать это – в начале прошлого века и в конце. Но оба раза короткий период относительной свободы быстро закончился бегством от нее из-за оправданного, в известном смысле, опасения «увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный... Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» (А. Пушкин).
Виктор Иванович Мироненко – кандидат исторических наук (Москва).
А. Пученков
Мне представляется, что термин «самодержавие» в данном случае не вполне корректен. Уместнее говорить о традиционном для россиян тяготении к сильной власти, их симпатии к «крепкой» руке и даже, быть может, существующем и поныне своего рода «наивном политическом монархизме».
Действительно, в сознании значительной части россиян присутствует тоска по сильной власти, «твердой руке», немало среди наших соотечественников и убежденных поклонников самодержавия как единственно возможного метода управления Россией. Этому есть и определенные логические объяснения, вытекающие как из многовековой истории монархии, так и из персональной модели власти, характерной для нашей страны. «Коллективное руководство», возникшее в СССР после смерти И. Сталина, имело как положительные, так и отрицательные стороны. Не лишним будет заметить, что ни Н. Хрущев, ни Л. Брежнев в публичных выступлениях не покушались на этот принцип. Безусловно, оба эти лидера никогда не имели власти, сопоставимой по объему с той, которой обладал И. Сталин.
Эти несколько десятилетий «коллективного руководства» в немалой степени заложили основу, принципы которой были воплощены на практике М. Горбачевым в рамках осуществления политической реформы, о переходе к которой было объявлено на ХIХ Всесоюзной партийной конференции.
Последующие шаги – углубление процессов демократизации, многопартийность и т. д. – заложили основы нового общества, с уважением относящегося к избирательному процессу, гласности суда, альтернативным выборам и т. д. Мне, вам, кому-то еще может не нравиться работа исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти – это вопрос оценки и вкуса. Но нелепо отрицать существование в России упомянутых выше демократических институтов. Они существуют. Причем существуют уже несколько десятилетий. В общем, мой взгляд не столь пессимистичен, как у автора вопроса.
Александр Сергеевич Пученков – доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург).
А. Рар
Россия упустила шанс на демократизацию. Принцип разделения властей в обществе рассматривается как путь в хаос. По всем опросам общественного мнения, после распада СССР люди высказывались в пользу сильной, абсолютной власти (институт президента). Отношение к институтам правительства и парламентаризма – менее положительное. Еще россияне выступают за максимальное увеличение роли Православной церкви и российской армии – для защиты суверенитета против внешних врагов. Роль СМИ в сегодняшней России не в «независимости» четвертой власти, а в поддержке власти. Психология «крепостничества» передалась за первые десятилетия XXI в. следующему поколению.
Я бы согласился с тезисом, что в России идея парламентской республики (где власть менее централизована) обернулась бы дезинтеграцией страны.
Сказать просто, россияне не научились жить при здоровой конкуренции идей. В менталитете заложено, скорее, желание «победить», нежели договориться и поделить. Это менее касается бытовых аспектов жизни, но четко касается политики. Не исключено, что правы те, кто говорит, что М. Горбачеву стоило бы в первую очередь заниматься экономическими реформами сверху и лишь затем демократизацией общества снизу.
Александр Глебович Рар – политолог, почетный профессор МГИМО МИД РФ, почетный профессор Высшей школы экономики (Берлин).
М. Федотов
Термин «самодержавие» можно понимать по-разному. Граф С. Уваров в своей печально знаменитой триаде под самодержавием понимал абсолютную власть монарха. Большевики разглагольствовали о «самодержавии народа», провозглашая себя единственным законным представителем народа-суверена.
Мне ближе другое прочтение данного термина: отечественное самодержавие следует понимать в том смысле, что порядок в России сам собой держится. И должен признать, что многим моим соотечественникам это нравится: где-то вдалеке сами собой формируются органы власти, сама собой функционирует экономика, сами собой возникают и разрешаются внутренние и международные конфликты. И зачем мне, обывателю, крошечной частице населения, вмешиваться в эти исторические процессы, раз уж они сами собой происходят и все как-никак само держится?
Что же касается разделения властей, то, в глазах обывателя, нет ничего страшнее, чем распределение властных полномочий между различными ветвями власти, разными государственными структурами. Гораздо симпатичнее ему технология «одного окна», почти идеально реализованная в столичных МФЦ. Во-первых, чем больше властей, тем больше чиновников, а значит, чтобы решить самый простой житейский вопрос, придется обивать пороги не у одного парадного подъезда, а как минимум у нескольких. Во-вторых, от разделения властей обывателю одна неразбериха.
Точно так же воспринимается и информационный плюрализм, когда на медиарынке существуют разные СМИ, с собственным взглядом на происходящее. Обывателю такое разнообразие претит. Он будет вполне удовлетворен одним информационным каналом, поскольку, если их будет несколько и, главное, если они будут по-разному освещать происходящее, он только запутается и перестанет понимать, чего от него хочет власть. Напротив, развлекательных каналов должно быть много, поскольку в плане культурных интересов обыватель далеко не гомогенен: мужу хочется смотреть бокс, жене – мелодраму, сыну – боевик, дочери – кулинарное шоу и т. д.
Михаил Александрович Федотов – доктор юридических наук, министр печати и информации РФ (1992–1993), постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО (1992–1998),
председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2010–2019), советник президента РФ (2010–2019) (Москва).
В. Фесенко
Хотелось бы верить в то, что россияне способны преодолеть поклонение самодержавию и признать безальтернативность разделения властей. Но в ближайшем будущем такой сценарий представляется маловероятным. Судя по различным социологическим исследованиям, лишь очевидное меньшинство российских граждан сохраняет сегодня демократические устремления.
Уместно вспомнить про опыт горбачевской перестройки: выбор в пользу либерализации политического режима может сделать и часть правящих элит. Впрочем, выбор в пользу демократической (или хотя бы более либеральной) политической модели может сделать и часть бизнеса, и часть среднего класса, особенно те, кого называют «креативным классом». Как показывает исторический опыт многих стран мира, именно выбор элит в пользу демократической модели управления является решающим фактором демократизации.
Но в современной России для выбора в пользу демократии мало преодолеть самодержавную форму правления и зачастую неосознанную веру в эту российскую псевдоскрепу. Для настоящих и устойчивых демократических преобразований необходимо также преодоление концепции имперской модели развития страны и сочетание демократической формы правления с успешной экономической стратегией развития, которая обеспечит рост благосостояния для большинства граждан.
Владимир Вячеславович Фесенко – политолог (Киев).
В. Халимочкин
Вопрос заранее предполагает, что отвечающий на него человек согласен и с тем, что россияне поклоняются самодержавию, и с тем, что принцип разделения властей не имеет альтернатив. Тем, кто придерживается иной точки зрения, будет тяжело на него отвечать. Но между моим мировоззрением и этим вопросом никаких противоречий нет.
Поклонение самодержавию пройдет, когда любая несамодержавная власть покажет свою эффективность. Когда она продержится при жизни многих поколений и даст понимание, что жизнь при ней лучше.
Парадокс российской истории в том, что реформаторам очень не везет, а авторитарные правители невероятно везучи. Много разговоров было о том, как пошла бы история перестройки, если бы цены на нефть не были обрушены. И что бы было с современной Россией, если бы цены на энергоносители были такими же, как в перестройку. Такое развитие событий наталкивает меня на мысль, что у истории есть предопределение и нам просто не нужно ему сопротивляться.
Насчет разделения властей та же история. Если этот принцип прочно укрепится в России, сформируется гражданское общество, которое будет контролировать его соблюдение, и несколько поколений проживут в таких условиях, только тогда и придет понимание его безальтернативности.
Не стоит забывать об одном важном уроке перестройки: ограничение самодержавия и разделение властей всегда происходит в России сверху. Не стоит ждать, что в следующий раз (если он случится) эти тренды будут принесены народными массами, ведь для большинства граждан они – пустой звук. Для этого нужна политическая воля и мудрость людей, находящихся в руководстве страны. Наше счастье, что у «архитекторов перестройки» эти качества были. За это я им очень благодарен. Найдутся ли люди, которые сделают нам такой подарок в очередной раз, которые будут способны сделать эти достижения долговременными? Но предыдущий шанс уже утерян…
Владимир Сергеевич Халимочкин – магистр истории СПбГУ (г. Санкт-Петербург).
Н. Хрущева
Способны ли россияне преодолеть поклонение самодержавию и признать безальтернативность разделения властей?
Если захотят, то способны. Когда-то были сомнения, что, например, Испания не сможет стать демократией. А она смогла. Для этого нужно желание. Нужно также и руководство, которое, вместо того чтобы все время придумывать, как подольше остаться у власти, будет думать о том, как использовать отведенное ей – и обязательно ограниченное – время на лучшее служение интересам населения: на улучшение жизненных условий, экономическое процветание и так далее. И властям, и людям необходимо признать именно безальтернативность ротации власти, важность существования сдержек и противовесов, а главное, понять, что «не боги горшки обжигают».
В 1957 г., во время первой попытки смещения Н. Хрущева, отвечая своим критикам, он говорил, что начальникам преклонного возраста (ему тогда было 63 года) надо бы думать о пенсии: «Вцепились и держимся за власть, как вошь за воротник. Управлять, подписывать они [молодое поколение. – Н.Х.] не хуже нас будут. Если мы сами не поймем, нас поносить будут». Вообще, настаивал он, «хочется на пенсии еще чайку попить, чтобы из власти не сразу в гроб».
В 1964 г. его часто хаотические политические действия, включая и такие нетрадиционные для России размышления, привели к окончательной отставке – никто в нашей стране не хочет добровольно уходить из Кремля. Среди прочих причин его убрали, чтобы не создавать прецедентов ротации руководящих постов. Для будущего России таких прецедентов ухода из власти – добровольно, в результате выборов и согласно Конституции – должно быть все больше и больше, пока они наконец не станут абсолютной нормой.
Нина Львовна Хрущева – профессор международных отношений университета New School (г. Нью-Йорк, США).
А. Ципко
Опыт посткоммунистической России показал – пока что непреодолимо традиционное русское поклонение всевластию самодержца. Завоевания демократии, перестройки были утрачены еще в октябре 1993 г., когда из танков был расстрелян легитимно избранный парламент. И сегодня, когда мы пытаемся понять природу перестройки М. Горбачева, ее ошибки, надо помнить, что подавляющее большинство советских людей, даже бывших коммунистов, в 1991 г. с поразительным равнодушием наблюдали за противостоянием ГКЧП и Б. Ельцина, желали победы Б. Ельцину и с тем же поразительным равнодушием встретили распад СССР. После Беловежских соглашений почти не было никого – ни среди гражданского населения, ни среди военных, – кто вышел бы на улицы Москвы с протестом против
распада СССР.
Началом восстановления самодержавия были выборы Б. Ельцина. А потом сработало традиционное русское поклонение всевластию руководителя государства, страх перед свободой, нежелание брать на себя ответственность за судьбы страны. С. Франк еще в 1920-е годы писал, что смерть коммунизма не приведет к утрате традиционного русского деспотизма и всевластия. И на то были серьезные структурные причины. Надо понимать уникальность России. Она, начиная с Ивана III, практически с конца ХV – начала ХVI в., будучи европейской страной, в то же время несла в себе традиционную ханскую власть, всевластие хана, который распоряжается и судьбой подданных, и их собственностью. И об этом писал Н. Карамзин еще в начале ХIХ в.: московские князья просто перенесли ханскую столицу с ханской властью с берега Ахтубы на берег Москвы-реки. Интересно, что сердцевина долгого государства В. Путина, которое описывает В. Сурков, то есть «доверительное общение верховного правителя с глубинным русским народом», можно назвать и сердцевиной русского самодержавия. Об этом, в частности, писали славянофилы.
С их точки зрения, сердцем русского самодержавия, его основой являются отношения между царской властью и народом, которые «покоились на внутреннем доверии друг другу, царю принадлежит сила власти, земле – сила мнения; сердечное общение власти и народа заменяет всякие конституционные разграничения и ограничения их сфер интересов». Об этом же спустя сто лет нам рассказывает В. Сурков: при доверительном общении верховного правителя с народом все наши политические институты – и Совет Федерации, и Дума – лишь бутафория, «выходная одежда», которую мы надеваем, чтобы показать другим странам, что мы ничем от них не отличаемся.
Обратите внимание, славянофилы более чем 150 лет назад говорили, что русским конституция не нужна, если у нас такие доверительные отношения между царем и народом. И власть московского князя, и царскую власть, созданную Петром I, и советскую власть, и нынешнее долгое государство В. Путина отличает (о чем, в общем-то, говорит В. Сурков) отсутствие разделения властей. И таким образом, Россия – уникальная европейская страна. Если у всех народов Европы власть вырастала снизу, из демократии города, то наша власть – можно сказать, классическая ханская азиатская модель, навязанная еще московскими князьями, – всегда требовала безусловного подчинения себе народа. И в том, что в европейском государстве, с европейской культурой и ценностями, власть является азиатской, со всевластием верховного правителя, как раз и заключается уникальность России и, как говорил Н. Бердяев, ее тайна.
И как только русская европейскость, со своими правами и свободами личности, начинает подрывать основы всевластия хана, русское государство рассыпается. Так было и в 1917 г., так было и в 1991-м.
История перестройки и ее во многом драматический конец ставят перед нами важные вопросы. Если перестройка не сумела освободить россиян от опасности возвращения к традиционной «ханской» власти, то есть ли у нас основания надеяться, что новый праздник свободы уведет страну из колеи монголоидной власти, по которой мы двигались 70 лет? Опыт распада СССР и та легкость, с которой он был принят гражданами (такая же, как и в момент распада царской России в 1917–1918 г.), ставит перед нами еще один страшный вопрос: а не приведет ли новая перестройка, с новой демократизацией России, уже к окончательному ее распаду? Об этом не думают наши либералы в изгнании, они не видят, что есть Россия. Они не понимают, что произошло на самом деле в конце 1990 – начале 1991-го, что на самом деле демократия выталкивает из России нации с традиционным авторитарным сознанием. Все это говорит о том, что для нас важно не только помнить о героизме М. Горбачева, о достижениях перестройки, но и о тех трудных вопросах, которые он поставил перед нами.
И все-таки перестройка дает основания для оптимизма. Она показала, что русские могут сами снизу свергнуть монголоидную тоталитарную власть, которая была навязана им сверху. Никто не может отрицать, что короткий опыт демократии, рожденной перестройкой, по крайней мере демократии с 1988 по 1993 г., многое дал не столько для возвращения русскому человеку чувства свободы, сколько для того, чтобы этот человек приобрел первый опыт свободы. И все говорит о том, что все-таки Россия – Запад и в русском человеке есть и чувство личности, и чувство личного достоинства, и желание жить в свободной демократической стране. Многие завоевания перестройки погибли, например право на мнение, противоречащее официальной линии. Но все-таки многое из того, что дала перестройка, осталось: свобода религии и религиозных чувств, вернулась правда о русской истории, о русских великомучениках, правда не только о победах русской армии, но и о победах героев духовного мужества, победах митрополита Филиппа, который восстал против опричнины Ивана Грозного... Перестройка хоть и с опозданием, но вернула русского человека к его духовному прошлому, к тому, что породило великую русскую культуру.
Однако все, что породила русская «ханская» власть, пока еще живо в русском национальном сознании. Пока для россиян власть только тогда власть, когда она абсолютная. И отсюда – скачки от всевластия к хаосу и анархии безвластия. Появится ли у нас остановка на пути от этого всевластия к анархии, неясно. Лично для меня анархия, русские бунты страшнее, чем всевластие.
Александр Сергеевич Ципко – доктор философских наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН (Москва).
Г. Явлинский
Я более тридцати лет занимаюсь публичной политикой в России, многократно встречался с людьми напрямую, поскольку 11 раз участвовал в федеральных выборах – восемь раз в парламентских и три раза в президентских. Это дало мне возможность объехать почти всю страну, и я могу с уверенностью заявить: никакого поклонения самодержавию у людей в России нет. Это миф.
Люди хотят видеть систему разделения властей, где судебная власть независима, парламент отражает их интересы и мнения, а исполнительная власть подотчетна парламенту и суду. Именно такой подход интересен людям. Проблема в том, что люди ни во что подобное больше не верят. Они не верят, что такие правила жизни возможны в России.
Многие россияне утратили веру в принципиальную возможность существования демократической системы в нашей стране. В частности, люди не верят, что в России закон может быть одинаковым для всех и что все будут равны перед ним. Кроме того, люди абсолютно убеждены, что они ни в малейшей степени не могут повлиять на политику. Это результат долгих целенаправленных усилий со стороны власти сознательной деполитизации общества.
Поэтому россиянам не нужно преодолевать поклонение самодержавию. Главная задача – преодолеть глубокое недоверие к тому, что в России возможны демократия, свобода слова, разделение властей и регулярная смена власти. Людей нужно убеждать не в том, что демократия лучше самодержавия, а в том, что демократия в принципе возможна в России. Полным провалом реформ 1990-х и последующим предельным авторитаризмом людей целенаправленно отучили верить в такую возможность.
Григорий Алексеевич Явлинский – доктор экономических наук, профессор, политический деятель (Москва).