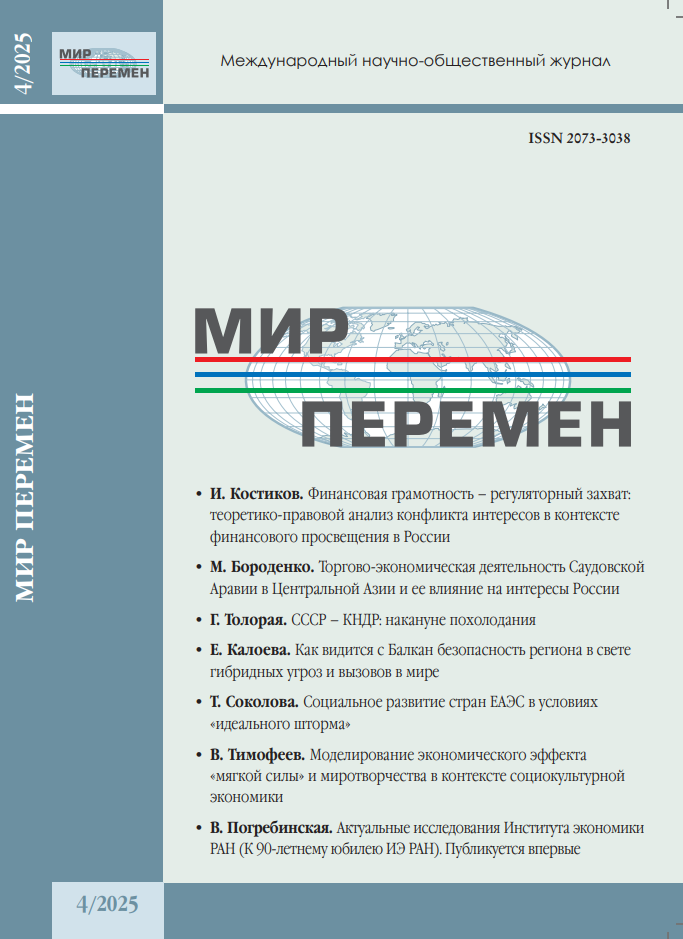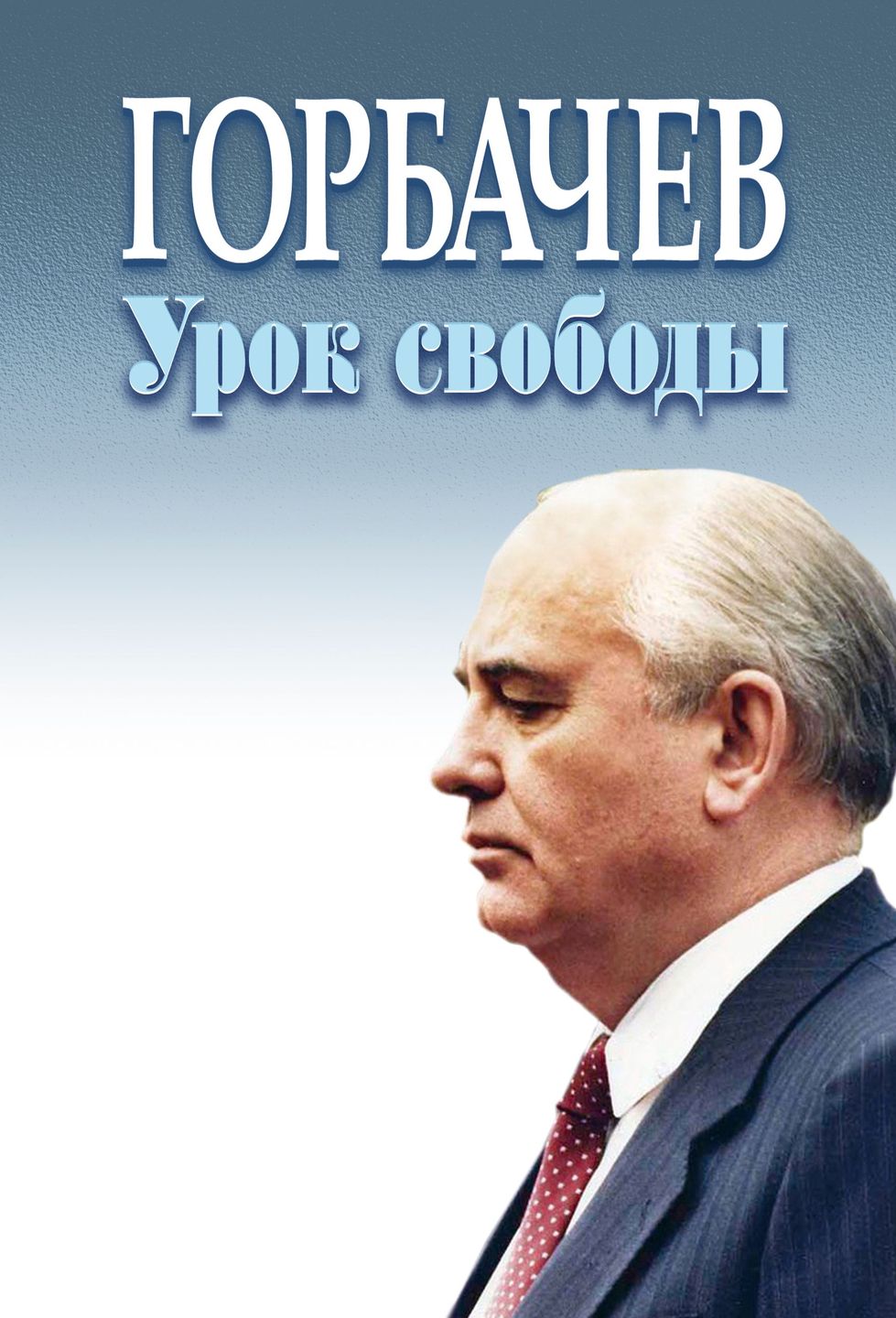Хрупкое сближение: перспективы и риски индо-китайского партнёрства
Глеб Макаревич, младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН
Во второй половине августа многие эксперты подхватили метафору Си Цзиньпина о драконе и слоне, которые должны объединиться и выступать на международной арене единым фронтом. Чуть позднее эту мысль развили в России, предложив составить трио, хотя и не до конца определились, кто выступит со стороны Москвы: медведь или тигр. Все эти яркие образы указывают на одно – перспективы индо-китайского сближения настолько захватывают воображение, что участники процесса просто не могут отказать себе в праве лишний раз посоревноваться в остроумии.
Однако если рассматривать ситуацию со звериной серьёзностью, то необходимо подчеркнуть действительно исторический характер наблюдаемых событий – с тем важным уточнением, что исторические процессы растянуты во времени и отличаются нелинейностью. Так, метафора про дракона и слона уже использовалась год назад в преддверии саммита БРИКС в Казани, а надежды на новую главу в индо-китайских отношениях вовсю пестовались ещё в 2018 году – за пару лет до столкновений в долине реки Галван, закрывших эту дискуссию, казалось бы, навсегда.
Жизнь в очередной раз подтвердила, что навсегда ничего не бывает. Наша задача состоит в том, чтобы определиться, насколько устойчивый перед нами тренд, каковы пределы роста индо-китайского взаимодействия, что может обратить процесс вспять и какие возможности это сулит для России.
Неумолимая поступь прогресса?
Со стороны может казаться, что тренд на индо-китайское сближение не может быть неустойчивым – слишком много выгод должны получить обе стороны от двустороннего взаимодействия. Такое же мнение выразили лидеры двух стран на саммите ШОС в Тяньцзине: индо-китайские связи могут быть стабильны и принести большую пользу Нью-Дели и Пекину, если те будут рассматривать друг друга как партнёров, а не противников.
В отношении Индии это абсолютно справедливо. В дискуссии с местными экспертами часто можно услышать шуточный вопрос: какова главная внешнеполитическая задача страны? Отклонив пару ожидаемых ответов (обретение статуса великой державы, сохранение стратегической автономии и так далее) и выдержав драматическую паузу, они называют правильный: ежегодный прирост ВВП в 8 процентов.
В целом страна близка к выполнению этой цели: хотя времена устойчивого плато на уровне около 8 процентов остались в прошлом (2003–2007 годы) средние темпы роста за последние десять лет составляют 6,1 процента (с учётом просадки из-за внешних шоков в лице коронавируса в 2020 года). Казалось бы, за партнёров можно только порадоваться.
Но для того, чтобы добиться сохранения даже таких показателей, Индии необходим постоянный приток инвестиций в промышленный сектор и инфраструктуру. Тут картина менее радужная: пик притока прямых иностранных инвестиций пришёлся на 2020 год (64,36 миллиарда долларов США), после чего начался спад – уже в 2021–2022 годах приток ПИИ составил чуть более 40 миллиардов долларов, а в 2023–2024 годах не дотянул и до 30 миллиардов долларов, что заставило многих экспертов всерьёз обеспокоиться по поводу светлых перспектив индийской экономики.
В этом контексте привлечение китайских инвестиций может быть как нельзя кстати, ведь речь идёт не просто о красивых отчётных цифрах, а о возможности улучшить социально-экономическое положение страны, численность населения которой едва не дотягивает до 1,5 миллиарда человек. Если их уровень жизни не будет постепенно повышаться или хотя бы оставаться на приемлемом уровне, то страну ждёт социальное напряжение и, как возможное следствие, политическая нестабильность.
Значит ли это, что наметившийся прогресс в индо-китайских отношениях неумолим?
Все былое в отжившем сердце ожило
Дать утвердительный ответ на этот вопрос сложно. Во-первых, не стоит ожидать, что всё произойдёт в одночасье – каким бы ни был привлекательным индийский рынок, зайти на него внешним игрокам всё же непросто. Компаниям из КНР потребуется время, чтобы найти выгодные ниши, согласовать все условия и реализовать задуманные проекты. Во-вторых, промышленный сектор и инфраструктура – понятия довольно широкие, и не в каждой отрасли китайцев будут ждать с распростёртыми объятиями. И тут мы подходим к самому главному – возможная вовлечённость Пекина в работу ряда критических отраслей (производство полупроводников, телекоммуникации) настолько секьюритизирована в индийском сознании, что каких-либо прорывов в таких областях едва ли стоит ждать.
Такое восприятие, разумеется, распространяется не только на взаимодействие в экономике. Индийский политический класс и экспертное сообщество не забыли ни о пограничных спорах с КНР, ни о китайских проектах, реализуемых на контролируемой Пакистаном территории Кашмира. Никуда не денется насторожённость в отношении активности Пекина в Бангладеш, Непале, Шри-Ланке, на Мальдивах и во всём регионе Индийского океана. В вопросах внешней политики, обороны и безопасности Китай едва ли перестанет восприниматься в качестве противника, хотя на официальном уровне и можно ожидать некоторое снижение антагонизма в риторике.
И дело не в какой-то особой закостенелости индийских элит и экспертного сообщества. Индийское руководство вынуждено реагировать на общественное мнение, которое в основном формирует средний класс. Последний отличает постоянно растущая потребность в подтверждении особого статуса Индии на международной арене. Любой удар по репутации воспринимается крайне болезненно и не подразумевает ничего иного, кроме жёсткого ответа обидчику. В таком контексте любое обострение ситуации на границе может перечеркнуть все громкие заявления на представительных саммитах – уязвлённая национальная гордость обязательно возьмёт своё, и очередное потепление в отношениях нам придётся обсуждать только через несколько лет.
Что, если не РИК?
Возвращаясь к объектам метафор в начале текста, следует задаться вопросом: действительно ли в этом сюжете есть место для России? В этот раз можно дать скорее утвердительный ответ, хотя и с некоторыми оговорками.
Главная оговорка касается формата РИК. В концептуальном плане сама идея значимости трёх стран на евразийском пространстве и желательности их кооперации не потеряла своей актуальности – скорее даже наоборот, стала ещё более очевидной. Однако это не подразумевает необходимости для Москвы прикладывать усилия по институционализации РИК – долгая история попыток добиться постоянного функционирования этого формата скорее указывает на низкую заинтересованность сторон в его развитии. Отчасти это объясняется существованием таких площадок как БРИКС, ШОС и «Группа двадцати», которые во многом дублируют функции РИК.
Вторая оговорка касается возможностей России по снижению противоречий между Индией и Китаем. В прошлом разделе мы пытались показать, что индийские опасения в отношении Китая имеют настолько глубокие корни и так легко провоцируемы, что вмешательство (в хорошем смысле) любой третьей стороны не вызовет ничего, кроме раздражения. Высок риск, что любые усилия Москвы могут дать не только нулевой, но и отрицательный результат.
Может сложиться впечатление, что в случае дальнейшего индо-китайского сближения никаких возможностей и перспектив для России просто нет. Представляется, что всё ровно наоборот – сам факт нормализации отношений между стратегическими союзниками создаёт гораздо более благоприятную международную среду для Москвы. Рост взаимодействия между Индией и Китаем в политике, экономике и безопасности даст возможность подключаться к проектам по любому из перечисленных направлений.
Ещё раз повторим, что никаких твёрдых гарантий для реализации такого сценария нет. Однако едва ли это должно демотивировать российскую сторону – завышенные ожидания могут нанести куда больший вред.
Международный дискуссионный клуб "Валдай". 17.09.2025