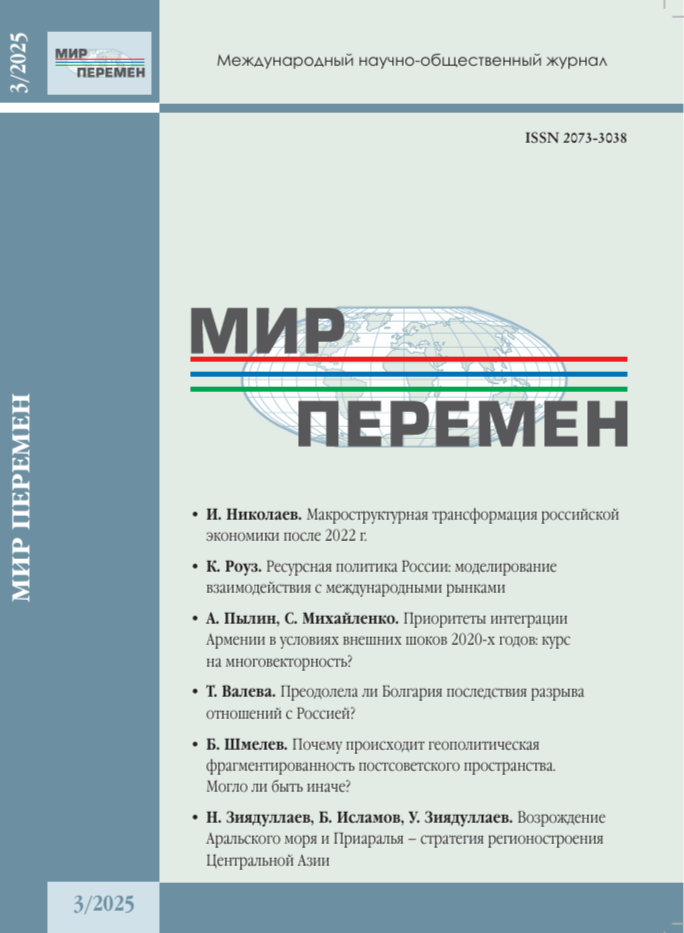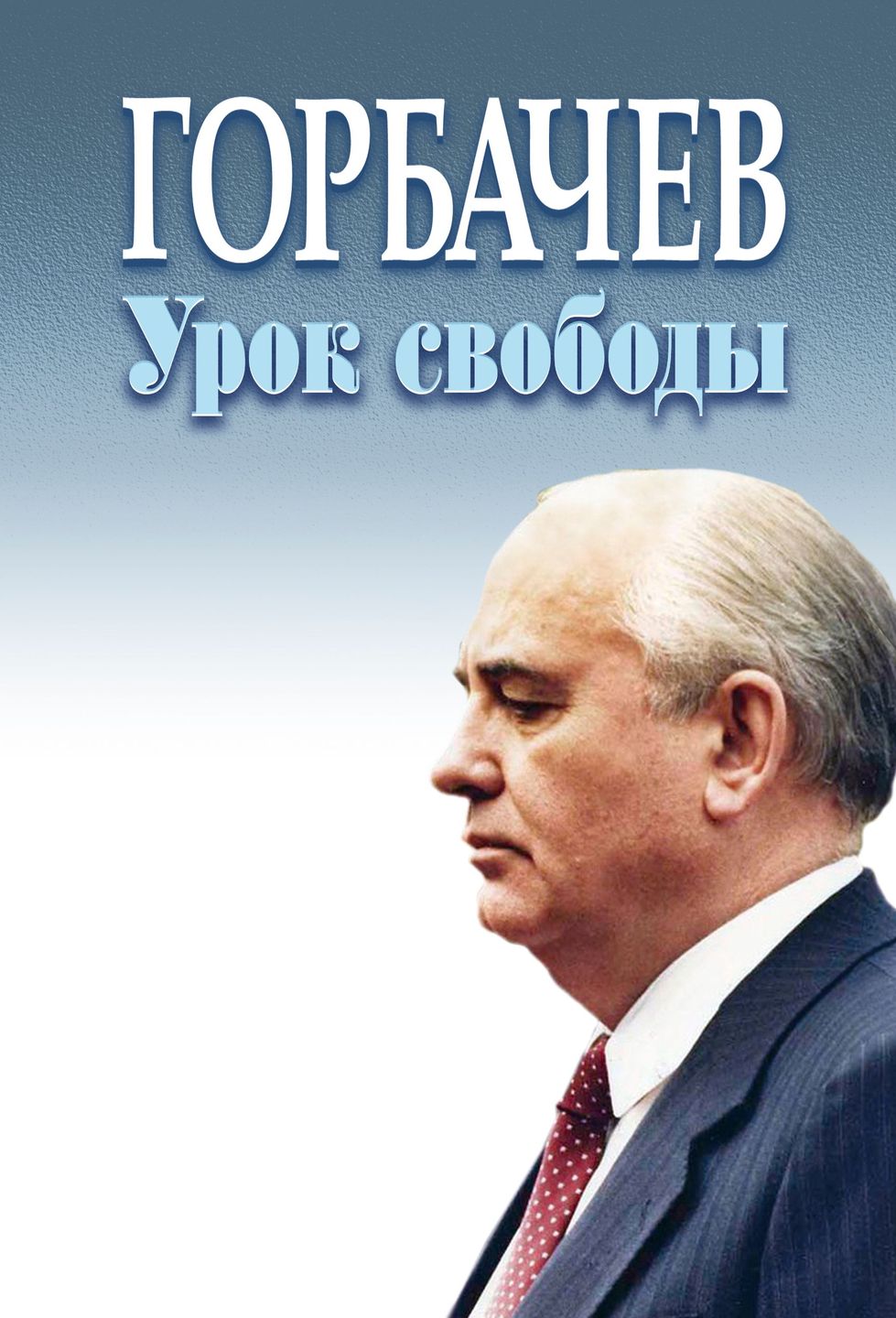Неторопливая дипломатия АСЕАН
Елена Пыльцина, старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН
Георгий Толорая, д.э.н., главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН
Саммит АСЕАН – 2025 в Куала-Лумпуре некоторые наблюдатели уже окрестили «историческим моментом перелома». Может быть, это и преувеличение, однако мероприятие действительно стало доказательством витальности Ассоциации, которая в последние годы переживала не лучшие времена. США в своей политике в «Индо-Пацифике» стали противопоставлять «центральной роли АСЕАН» свои форматы (Quad, AUKUS, JAKUS), выстраиваемые на антикитайской основе. Однако с приходом в Белый дом Трампа, который, кажется, несколько разочаровался в эффективности этих усилий, давление на АСЕАН вроде бы ослабло. Похоже, Ассоциация, вопреки своей обычной неповоротливости, успела воспользоваться моментом, доказав, что её идеология постепенности и компромиссов в нынешнее неспокойное конфронтационное время более востребована, чем «лобовые атаки».
Нынешний саммит отмечен серией прорывных соглашений и геополитических сигналов, которые, вероятно, окажут немалое воздействие на траекторию развития Юго-Восточной Азии на следующее десятилетие.
Куала-Лумпур стал местом сбора мировых лидеров, наглядно продемонстрировавшим уникальную объединяющую силу АСЕАН. В него съехались руководители Китая, Индии, Бразилии, новый премьер-министр Японии… Но, конечно, «шоу украл» Дональд Трамп. Он стал третьим действующим президентом США, посетившим Малайзию. Его предшественниками были Барак Обама в 2015 году и Линдон Джонсон в 1966 году. Принимая во внимание, что Трамп игнорировал АСЕАН в свой первый срок, а Джо Байден пропустил несколько саммитов, нынешний визит был воспринят как явный сигнал о стремлении США вновь заявить о своём влиянии в Юго-Восточной Азии на фоне растущего вовлечения Китая. Он стал катализатором процессов, демонстрирующих как новые возможности, так и старые, глубоко укоренившиеся риски для региона.
Зримым и символически насыщенным результатом саммита стало подписание мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей по их затяжному пограничному конфликту. Церемония, на которой премьер-министры двух враждующих стран стояли бок о бок с Дональдом Трампом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, была тщательно срежиссирована, чтобы продемонстрировать миру торжество дипломатии. Трамп сорвал свою порцию блицев и аплодисментов, но у него нет «волшебной палочки», чтобы решить застарелые проблемы, уходящие корнями в колониальное прошлое и усугублённые всплесками национализма. Его присутствие сработало как мощный детонатор, оказав беспрецедентное давление на стороны. Бангкок и Пномпень были вынуждены сесть за стол переговоров, опасаясь оказаться в центре непредсказуемой бури вашингтонского недовольства. Однако подписанный документ – это не всеобъемлющий мирный акт, а скорее прелиминарное соглашение, почти что «декларация о намерениях». Его суть сводится к прекращению боевых действий и возвращению некоторых заложников. Тысячи людей остаются в лагерях, а фундаментальные вопросы о демаркации границы, о спорных территориях, о бизнес-интересах, стоявших за конфликтом (включая печально известные скам-центры), остаются нерешёнными. И здесь на первый план выходит та самая неброская, «фоновая», но критически важная работа АСЕАН. Трамп, осветив мероприятие вспышкой своей харизмы, улетел по другим глобальным делам, а тяжёлая ежедневная работа по удержанию хрупкого мира ляжет на плечи акторов из региона. Группа АСЕАН, в данном случае в лице председательствующей Малайзии и Анвара Ибрагима, выступила тем клеем, который удерживает стороны вместе, тем механизмом, который обеспечивает непрерывность диалога, когда мировая повестка переключается на что-то иное. Опасность регресса, нового витка насилия на тысячах километров тайско-камбоджийской границы всё ещё крайне высока. И вопрос «кому жаловаться?» будет адресован именно АСЕАН. Таким образом, тайско-камбоджийское соглашение – это хрестоматийный пример новой модели гибридной дипломатии: импульс и давление извне от великой державы, помноженные на институциональную выносливость и посреднический капитал регионального объединения.
Исторической вехой для Ассоциации стало официальное принятие Тимор-Лешти в качестве 11-го полноправного члена, что ознаменовало первое расширение блока с 1999 года. Церемония подписания декларации сопровождалась символическим размещением флага новой страны рядом с флагами других членов АСЕАН. Премьер-министр Тимор-Лешти Шанана Гусман, проливший слезы радости, назвал этот момент «воплощением мечты» и «мощным подтверждением пути» его народа. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что это пополнение «завершает семью АСЕАН», подтверждая общую судьбу и глубокое чувство регионального родства. Это членство, несущее как огромные возможности, так и новые вызовы для консенсуса и экономической интеграции внутри блока, стало логическим завершением долгого пути молодой нации и новой вехой в эволюции самой Ассоциации.
Естественно, что успех на тайско-камбоджийском направлении породил вопрос: может ли эта модель быть применена к другим, ещё более сложным региональным кризисам, включая Мьянму и Южно-Китайское море? Ответ, к сожалению, не столь оптимистичен. В случае с Мьянмой внутренние противоречия носят настолько глубинный и затяжной характер, что простое давление извне вряд ли что-то изменит. Для настоящего мира необходима готовность всех сторон к компромиссу, а до этого момента любые внешние попытки «протолкнуть» урегулирование обречены на провал. Более того, у Трампа, занятого Ближним Востоком, Европой и торговыми войнами, Мьянма может просто не оказаться в числе приоритетов. И здесь вновь проявляется роль АСЕАН как «терпеливой» силы. Ассоциация владеет местной спецификой, методично и настойчиво пытаясь найти хоть какие-то зацепки в тупиковой ситуации. Политика «пяти пунктов консенсуса», несмотря на отсутствие перспектив быстрых решений, остаётся единственным легитимным региональным форматом, и АСЕАН будет продолжать свою борьбу, понимая, что лёгких рецептов здесь не существует.
Что касается Южно-Китайского моря, то здесь ситуация ещё сложнее. Многолетние попытки разработать Кодекс поведения (COC) совместно с Китаем вновь отошли на этом саммите на второй план, что ярко иллюстрирует фундаментальные сложности. Путаница возникает из-за разнобоя в понимании целей кодекса: он не предназначен для урегулирования территориальных претензий, а лишь для создания правил поведения, чтобы предотвратить эскалацию инцидентов. Китай не заинтересован в кодексе именно потому, что он мог бы ограничить его свободу действий, в то время как оппонирующие ему страны АСЕАН (Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней) опасаются, что любой документ лишь узаконит растущую мощь Пекина. Фактор Трампа, как ни парадоксально, может сыграть здесь позитивную, хотя и косвенную роль. Его присутствие на саммите служит сигналом для Китая: если вы не сможете договориться с АСЕАН о процессе, поддерживающем мир, Америка может попытаться навязать свой порядок, что чревато прямым столкновением. Однако Вашингтон, вероятно, проявит повышенную осторожность в вопросах, связанных с Южно-Китайским морем, по сравнению с ситуацией на тайско-камбоджийской границе, поскольку здесь имеет место непосредственное столкновение интересов двух сверхдержав. Таким образом, эффективность внешнего давления в сочетании с внутрирегиональными усилиями оказывается существенно ограниченной в контексте ЮКМ, где глобальный характер соперничества между США и КНР создаёт качественно иные условия для урегулирования.
Это китайско-американское противостояние стало ещё одной доминантой саммита. Параллельно выдвижению мирных инициатив США ещё до его начала вели серию интенсивных торговых переговоров с Китаем, и здесь позиция АСЕАН, озвученная малайзийским премьером, была предельно чёткой: регион не хочет выбирать сторону. Он хочет делать бизнес и с Америкой, и с Китаем. Такая стратегическая амбивалентность является краеугольным камнем внешней политики Ассоциации.
Ключ к долгосрочному миру и стабильности в ЮВА лежит не в том, на чью сторону станет АСЕАН, а в том, смогут ли сами два «полюса» найти способ сосуществовать. Кульминацией всего азиатского турне Трампа должна была стать встреча с Си Цзиньпином в Пусане (РК), но ожидаемого прогресса в «большой сделке» заметить не удалось. Трамп, готовя почву для переговоров с Си, заранее заключил ряд двусторонних сделок по редкоземельным металлам с Малайзией и другими странами, что было тактическим ходом для создания альтернативных цепочек поставок на случай срыва переговоров с Китаем. Это означает новые экономические возможности для этих стран и одновременно усиливает их роль как пешек в большой игре.
Для стран ЮВА оптимальным сценарием была бы управляемая конкуренция между двумя центрами силы, ведь перманентный страх региона – оказаться раздавленным в полномасштабной торговой войне между двумя экономическими титанами.
В этом контексте особую актуальность приобретает вопрос о внутрирегиональной интеграции. Озабоченность протекционистской политикой Трампа заставила АСЕАН в очередной раз задуматься о необходимости усиления собственной экономической устойчивости. Промоушн внутриасеановской торговли стал одним из ключевых пунктов повестки. И дело тут не в Америке и не в Китае, а в проблемах внутри самого блока. Торговля с США важна, но на неё приходится лишь 11 процентов товарооборота, и не она лежит в основе экономик региона. Чтобы увеличить долю взаимной торговли, Ассоциации необходимо «сделать домашнюю работу». Основные препятствия – это нетарифные меры. Некоторые из них мотивируются соображениями безопасности, охраны здоровья или защиты окружающей среды, но зачастую это просто завуалированный протекционизм: бюрократические барьеры, искусственные стандарты, призванные подавить конкуренцию.
Устранение этих барьеров – это та рутинная, неглянцевая работа, которая не попадает в заголовки газет, но которая критически важна для будущего региона. Саммит 2025 года, судя по всему, даст новый импульс работе по реализации Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (ВРЭП). Соглашение о его создании вступило в силу с 2022 года, это крупнейшая в мировой экономике зона свободной торговли в составе КНР, Японии, Республики Корея, всех стран АСЕАН, Австралии и Новой Зеландии. ВРЭП создаёт ту самую многостороннюю сеть экономических связей, которая позволяет АСЕАН диверсифицировать риски и не попадать в полную зависимость от капризов Вашингтона или Пекина. России и ЕАЭС стоило бы быть более активными в налаживании связей и взаимодействии с этой организацией в рамках неторопливой, но ориентированной на будущее работы в духе концепции Большого евразийского партнёрства. Такая рутинная работа в этом регионе явно более результативна, чем публичные шоу и театральные эффекты.
Международный дискуссионный клуб "Валдай". 11.11.2025