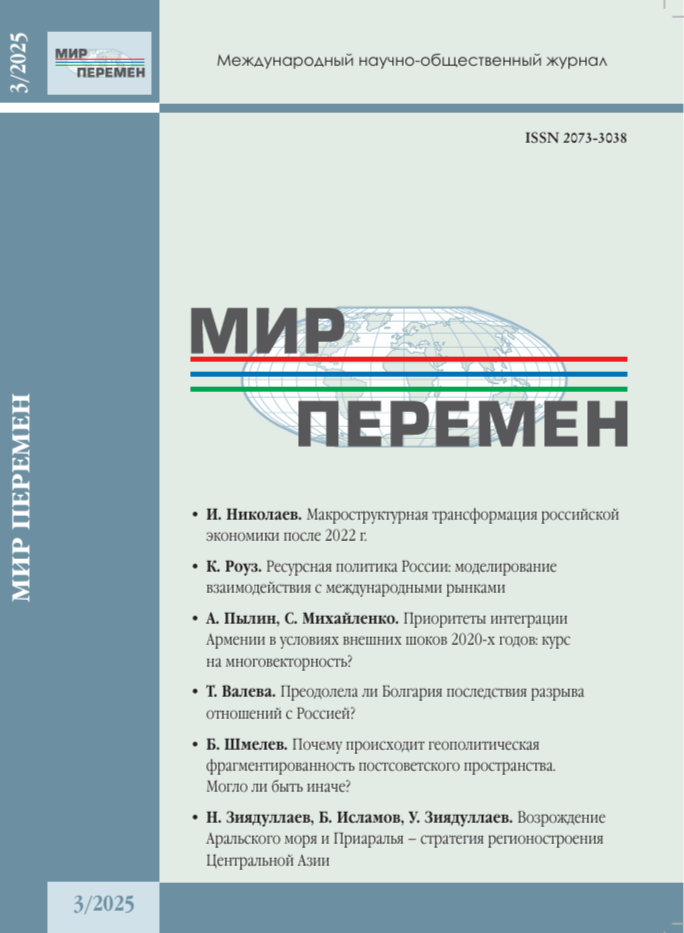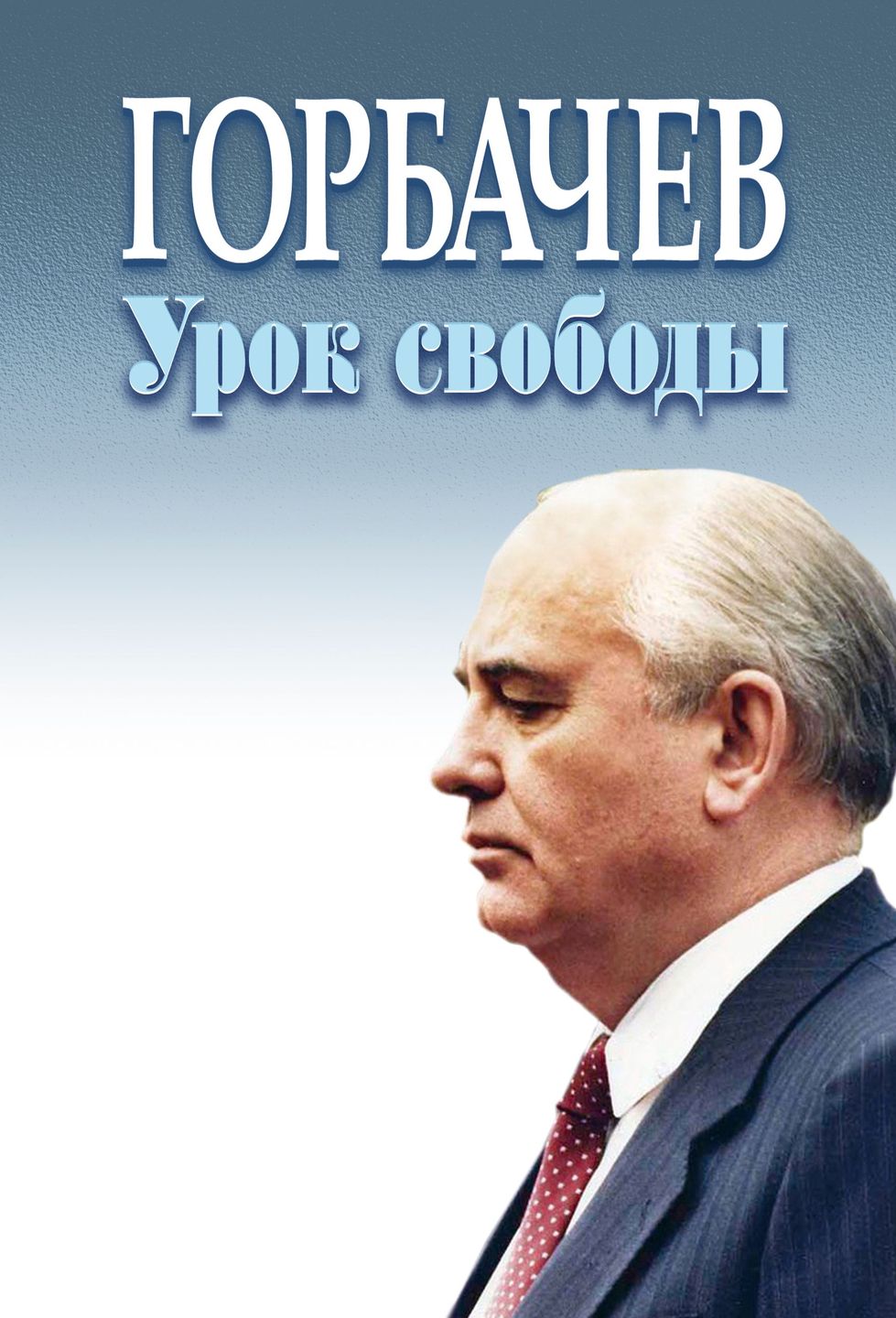БРИКС как системный вызов для Вашингтона
Фархад Ибрагимов, преподаватель Экономического факультета РУДН им. П. Лумумбы, политолог
Игбал Гулиев, д.э.н., профессор, декан Факультета финансовой экономики МГИМО МИД России
Объединение БРИКС в последние годы все активнее проявляет себя не только как экономическая, но и геополитическая сила, способная бросить системный вызов устоявшемуся миропорядку, в центре которого долгое время находились Соединенные Штаты Америки. Вместе с тем эволюция БРИКС от концептуального конгломерата быстроразвивающихся экономик к многостороннему политико-экономическому альянсу вызывает тревогу в западных столицах, и прежде всего в Вашингтоне. Ярким индикатором этого беспокойства служат заявления президента США Д. Трампа, пообещавшего ввести новые тарифные меры против стран, демонстрирующих лояльность к БРИКС. Эта инициатива вписывается в общую стратегию сдерживания, отражающую опасения американского истеблишмента относительно угрозы утраты глобального доминирования.
Новая тарифная политика Д. Трампа — не просто сиюминутная политическая инициатива, а начало системных ответных мер, отражающих интересы влиятельных элит американского истеблишмента, так называемого «глубинного государства». Эти меры направлены на недопущение перераспределения глобального влияния и являются реакцией на растущую институционализацию БРИКС, активно работающего над формированием альтернативных финансовых, торговых и политических механизмов. Подобные действия свидетельствуют о стратегическом неприятии со стороны США самой идеи демонтажа однополярного мира и замены его более диверсифицированной моделью глобального управления. Вашингтон не готов и не собирается без борьбы принимать тот факт, что архитектура мировой системы может быть (или уже) переосмыслена в условиях восходящей роли стран глобального Юга.
Проведенные в течение последних девяти месяцев саммиты БРИКС в Казани и Рио-де-Жанейро без преувеличения стали поворотным моментом: если ранее БРИКС часто воспринимался скептически и в качестве аморфного образования, неспособного к стратегической консолидации, то сегодня рассматривается как реальный вектор нового мироустройства. Подтверждением этому служат как расширение формата за счет новых членов, так и согласование повестки, включающей вопросы валютной координации, суверенного технологического развития и реформирования международных институтов, в частности финансовых.
Таким образом, реакция Вашингтона, выраженная в угрозах тарифного давления, демонстрирует неуверенность в собственных силах и непубличное признание трансформационного потенциала БРИКС. Объединение, претендующее на роль одного из архитекторов постзападного миропорядка, перестает быть объектом снисходительного анализа и становится полноценным геополитическим субъектом, способным изменить геостратегический ландшафт XXI в.
Выступление Д. Трампа о планах ввести 10% таможенные пошлины против всех стран, поддерживающих БРИКС, продемонстрировало беспрецедентный уровень политической озабоченности Вашингтона растущей глобальной ролью альянса. Более того, прозвучавшее пояснение, что санкции будут применяться не за конкретные действия, а за само членство в БРИКС, подчеркивает восприятие данного формата как атисистемный проект, подрывающий основы американского глобального лидерства.
По сути, речь идет о попытке задействовать торгово-экономические рычаги в геополитической борьбе за формирование будущего миропорядка. Особое раздражение у Вашингтона вызывает валютный аспект сотрудничества стран БРИКС, в частности, обсуждение механизма расчетов в национальных валютах, создание Нового банка развития БРИКС и продвижение идеи альтернатив международным финансовым институтам, контролируемым Западом. Слова Д. Трампа о том, что БРИКС был создан, «чтобы навредить доллару и лишить его статуса стандарта», следует понимать не как фигуру речи, а как отражение реальных страхов американского истеблишмента перед наступлением многополярного мира. Валютная автономизация стран БРИКС, особенно на фоне растущих объемов расчетов в юанях, рупиях и рублях, воспринимается американской администрацией как покушение на фундамент американской власти — контроль над глобальной финансовой системой.
Нельзя не учитывать и макроэкономические последствия конфронтационного курса Вашингтона. Торговые войны, начатые США под предлогом «защиты национальных интересов», не только подрывают устойчивость глобальных цепочек поставок, но и формируют хроническую неопределенность.
Формирование альтернативной институциональной платформы, укрепление координации между странами глобального Юга и попытки дедолларизации мировой торговли — все это воспринимается в Вашингтоне как системная угроза статус-кво.
Напряжение между США и объединением БРИКС — не просто следствие экономических разногласий, но и отражение глубинного конфликта между устоявшейся и формирующейся моделью миропорядка. Однополярность, основанная на американской исключительности и финансовой гегемонии, все чаще сталкивается с инициативами многополярной координации, в которой БРИКС играет роль не столько антагониста, сколько символа новой эпохи международных отношений.
Геополитический парадокс тарифных войн
Тарифная политика администрации Д. Трампа, задуманная как инструмент восстановления экономического суверенитета США и сдерживания стратегических конкурентов, на практике привела к обратному эффекту — ускорению процессов консолидации и политического укрупнения альтернативных центров силы, в первую очередь — БРИКС. Парадокс заключается в том, что меры, направленные на фрагментацию глобальной торговой системы и ослабление позиции Китая, России и других несогласных с американской моделью мира государств, способствовали сближению этих стран на платформе общего неприятия одностороннего давления. В центре внимания находится фундаментальный процесс формирования политико-ценностной солидарности государств, воспринимающих однополярную модель мира как ограничительную и несовместимую с их национальными интересами.
Сближение государств глобального Юга (в частности, в рамках БРИКС) не следует интерпретировать исключительно через призму прагматической финансовой повестки, связанной с отказом от доллара. Речь идет прежде всего о конвергенции стратегических установок, основанных на стремлении к более сбалансированной архитектуре международных отношений, расширению пространства суверенного выбора и недопущению доминирования одного центра силы. Бразилия и Индия, несмотря на имеющиеся связи с США и Западом в целом, все чаще артикулируют позиции, исходящие из собственных региональных и глобальных амбиций. Их участие в альтернативных интеграционных форматах отражает не антагонизм к доллару как таковому, а стремлением к большей политической субъектности, в том числе в вопросах международной безопасности, технологического суверенитета и реформирования глобального управления.
Если еще 5–10 лет назад западный экспертный мейнстрим рассматривал БРИКС как эфемерную конструкцию — слишком разношерстную, лишенную общего идеологического фундамента и скрепленную в основном риторикой глобального Юга, то в условиях геоэкономических потрясений и риторики Трампа скепсис начал сменяться тревогой.
По сути, политика Д. Трампа подтолкнула страны БРИКС к развитию институционализации и стратегической переоценке их коллективной роли. Ответом стали усиление внутрирегиональных расчетов в национальных валютах, расширение полномочий Нового банка развития, запуск механизмов торгового арбитража вне юрисдикции США, а также технологическое сотрудничество и продовольственная безопасность внутри блока. Все это создает предпосылки для того, чтобы БРИКС превратился из символического альянса в полноценный геоэкономический полюс.
Действия США в виде тарифных и валютных угроз дали странам БРИКС редкое ощущение общего стратегического горизонта. Возникающее между ними сотрудничество все чаще строится не на формальной солидарности, а на прагматичном расчете: в условиях давления со стороны глобального гегемона устойчивость возможна лишь через координацию и институциональное взаимодополнение.
Важно также отметить, что рост авторитета БРИКС происходит на фоне деградации глобальных институтов, прежде всего ВТО и МВФ, которые все чаще воспринимаются как инструменты обеспечения западных интересов. В этом контексте даже страны, не входящие в БРИКС, начинают рассматривать его как платформу, способную обеспечить хотя бы частичную экономическую суверенность и диверсификацию внешней политики. Дополнительным импульсом для укрепления БРИКС стал и внутриполитический кризис в США, проявившийся в глубокой поляризации американского общества и ослаблении внутриполитического консенсуса по вопросам внешнеэкономической стратегии. Эти внутренние противоречия подорвали способность США проводить стабильную и предсказуемую политику на международной арене, особенно в сфере торговли и экономического взаимодействия. На этом фоне страны БРИКС получили дополнительное пространство для выработки самостоятельной линии поведения, более четко и уверенно формулируя собственные стратегические и экономические интересы. Тарифные войны администрации Д. Трампа сыграли дестабилизирующую роль не только в глобальной торговле, но и в восприятии США как надежного партнера. Надеясь на сдерживание роста альтернативных центров силы, меры 47-го президента США лишь ускорили процесс отдаления БРИКС от американской экономической орбиты. Для стран объединения стало очевидно, что ставка на независимость и развитие собственных институтов это единственный путь к устойчивости в условиях непредсказуемой политики Вашингтона.
Таким образом, тарифные войны Д. Трампа, как и более широкий курс на «экономический национализм», вопреки замыслу оказались мощным внешним стимулом для превращения БРИКС из декларативной структуры в проект с реальным политическим и стратегическим весом. Там, где раньше западные аналитики видели разобщенность и неясность, сегодня формируется ось, способная не только реагировать на внешнее давление, но и формировать альтернативные правила игры. Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что БРИКС — это способ сбалансировать мировой порядок, который уже давно сосредоточил огромную власть в руках Соединенных Штатов и других западных стран. Это заявление можно рассматривать как отражение объективного сдвига в восприятии мира: от однополярности к полицентризму. БРИКС в этой логике — не альтернатива Западу в традиционном конфронтационном смысле, а попытка построения более инклюзивной и справедливой архитектуры международных отношений, в которой голоса стран глобального Юга не просто слышны, но и институционально оформлены. Институционализация БРИКС может представлять собой поэтапный процесс, который обеспечит переход объединения от политического диалога к полноформатному многостороннему механизму. Один из ключевых элементов этого процесса — создание формальных структур управления, таких как Совет министров, постоянный секретариат, рабочие группы и координационные комитеты, обладающие мандатом на подготовку решений, контроль их исполнения и выработку стратегических ориентиров. Наряду с этим осуществляется развитие юридической базы, выражающееся в закреплении норм и обязательств в виде меморандумов, соглашений и уставных документов, охватывающих широкий спектр взаимодействия: от торговли, инвестиций и устойчивого развития до вопросов безопасности, цифровой трансформации и технологического суверенитета.
Особое значение в институциональном оформлении БРИКС имеет формирование механизмов экономического взаимодействия. Ярким примером здесь выступают создание Нового банка развития (НБР), что свидетельствует о стремлении к построению собственной финансовой инфраструктуры, альтернативной западным институтам глобального управления, таким как МВФ и Всемирный банк. Важным направлением является также оформление процедурного каркаса: установление регулярных форматов сотрудничества (включая ежегодные саммиты, встречи на уровне министров и экспертные площадки), ротация председательства, выработка единой повестки и формализация механизмов внутриорганизационного взаимодействия.
Наконец, институциональное оформление предполагает и расширение взаимодействия с внешними партнерами. Это включает в себя формализацию статуса диалоговых партнеров, наблюдателей и ассоциированных членов, а также выстраивание устойчивых каналов взаимодействия с другими международными организациями и инициативами, такими как G20, ООН, Африканский союз и др. Все это в совокупности отражает стремление БРИКС трансформироваться в более консолидированного и влиятельного актора мировой политики с собственной нормативной и институциональной базой.
Следует отметить, что опасения по поводу растущего веса БРИКС в международных делах возникли в американском истеблишменте задолго до прихода Д. Трампа к власти. Однако именно 47-й президент США стал первым американским лидером, кто открыто признал БРИКС как стратегическую угрозу американскому доминированию и попытался реагировать на это не дипломатическими маневрами, а прямыми протекционистскими мерами. Предыдущие администрации предпочитали обходить острые углы и сохранять видимость контролируемой многосторонности, избегая прямых оценок. Так, в 2015 г. президент США Б. Обама лично прибыл в Нью-Дели на встречу с премьер-министром Индии Н. Моди. Одна из неформальных целей этого визита — переубедить Индию в необходимости дистанцироваться от БРИКС и тем самым перераспределить стратегические приоритеты в сторону сближения с Западом. В контексте этого курса с Н. Моди были даже сняты персональные визовые ограничения, ранее введенные в связи с его деятельностью на посту губернатора в Гуджарате в прошлом. Однако эта попытка нивелировать участие Индии в БРИКС оказалась безуспешной: Нью-Дели продолжил укреплять связи в рамках объединения, сохранив курс на стратегическую автономию и многосторонность.
Позднее, уже в 2023 г., администрация Дж. Байдена через советника по национальной безопасности Дж. Салливана продемонстрировала более сдержанную, но не менее показательную позицию. В одном из своих публичных заявлений он подчеркнул, что Вашингтон якобы не рассматривает БРИКС как потенциального геополитического соперника. Он акцентировал внимание на внутренней неоднородности группы, разделив ее на «демократии» (Бразилия, Индия, ЮАР) и «автократии» (Россия и Китай). Такая риторика была очевидной попыткой выдать желаемое за действительное: представить БРИКС как временное, внутренне противоречивое образование, неспособное к стратегической консолидации. На этом фоне политика Д. Трампа представляет собой совершенно иной подход: он отказался от обтекаемых формулировок и двусмысленной дипломатии и прямо перешел к экономическому давлению, которое прежде всего проявилось в форме тарифных войн и ревизии торговых соглашений. Его стратегия, основанная на логике «жесткой силы», в отличие от осторожной риторики предшественников, фактически признала БРИКС не только как экономическую реальность, но и как зарождающийся геополитический контур. Ирония заключается в том, что именно эти действия, направленные на сдерживание БРИКС, лишь ускорили его институциональное укрепление и рост привлекательности для стран глобального Юга. Под институционализацией в данном контексте подразумевается не просто количественное расширение состава БРИКС, но и трансформация объединения в сторону большей структурной определенности и политико-правовой оформленности. Принятие новых полноправных членов, а также закрепление форматов взаимодействия с государствами-наблюдателями и странами-партнерами свидетельствуют о переходе от гибкой, во многом символической коалиции к более формализованной многосторонней платформе с устойчивыми механизмами координации.
Такой процесс указывает на стремление стран БРИКС выстроить институциональную основу, способную обеспечить преемственность, стратегическое целеполагание и международную легитимность объединения. В этом контексте институционализация выступает как инструмент консолидации политического влияния, повышения предсказуемости внутригрупповых решений и формирования альтернативного центра силы в глобальной системе. Формализация партнерств с третьими странами также отражает нарастающее притяжение повестки БРИКС и ее потенциальную универсализацию в качестве модели постзападной многосторонности. Принятие на последних двух саммитах БРИКС Казанской декларации и Декларации Рио-де-Жанейро, в которой государства-члены подтвердили свою приверженность целям устойчивого развития и укреплению сотрудничества в различных областях, — наглядное свидетельство поступательного движения объединения в сторону институционализации. Эти документы не только закрепляют общие ценностные ориентиры и стратегические приоритеты БРИКС, но и служат элементами формирования нормативной базы, отражающей растущую степень согласованности позиций и формализации процедур внутри группы.
На сегодняшний день одним из наиболее агрессивно настроенных представителей американского политического истеблишмента в отношении группы БРИКС выступает сенатор-республиканец Л. Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Его риторика отличается крайней жесткостью, а предложения носят откровенно конфронтационный характер. Именно Л. Грэм — автор законопроекта о новых санкциях против России, подразумевающих пошлины в 500% на поступающую в США продукцию из стран, которые покупают нефть российского происхождения. В этом контексте сенатор прямо назвал Китай, Индию и Бразилию как приоритетные цели экономического давления. По утверждению Л. Грэма, ввод таких тарифов должен заставить ведущие государства глобального Юга сделать выбор между сотрудничеством с Россией и доступом к американской экономике, уверенно подчеркнув при этом, что, по его мнению, Пекин и Нью-Дели предпочтут США. Эта позиция отражает не только устоявшуюся практику экономического принуждения, которой Вашингтон активно пользуется на протяжении последних десятилетий, но и демонстрирует явную обеспокоенность американского истеблишмента возрастающим международным влиянием БРИКС.
Важно отметить, что подобная агрессивная риторика и политическая инициатива Л. Грэма служат своеобразным индикатором трансформации глобального баланса сил. Давление на страны, входящие в БРИКС с целью сорвать их экономическое взаимодействие с Россией, фактически свидетельствует о том, что само объединение уже воспринимается в США как консолидированный и стратегически значимый актор, способный бросить вызов существующему однополярному порядку. Реакция в виде угрозы тарифов и санкций — не только инструмент давления, но и признание устойчивости и внутреннего сплочения БРИКС, укрепляющегося на фоне попыток внешнего давления.
Тарифная угроза Д. Трампа: демонстрация силы или экономический блеф?
О том, что Д. Трамп угрожает странам БРИКС 100% тарифами, в случае если они попытаются заменить доллар, стало известно еще 31 января, когда на своей страничке в соцсети хозяин Белого дома заявил, что США «собираются потребовать от стран БРИКС отказаться от создания новой валюты и не поддерживать никакую альтернативу могущественному доллару». Это заявление прозвучало как прямой ультиматум, свидетельствующий о переходе от риторики сдерживания к стратегии принуждения в отношении БРИКС. Однако здесь важно подчеркнуть, что страны БРИКС, включая Россию и Китай не раз заявляли о том, что в ближайшей перспективе вопрос создания единой валюты на повестке не стоит. Более того, президент России В. Путин прямо отмечал, что Москва не борется с долларом и не отказывается от его использования, но в то же время сталкивается с искусственными ограничениями, которые мешают ей работать в рамках долларовой системы. В этом контексте БРИКС ориентируется не столько на замену доллара, сколько на снижение критической зависимости от него в условиях геополитической нестабильности и санкционного давления.
Показательным стал и предпоследний саммит БРИКС в Казани, где вопрос о создании единой валюты был признан крайне сложным и отложенным на неопределенную перспективу. Подобные проекты требуют глубокой институциональной, макроэкономической и валютной интеграции, на что потребуются годы или даже десятилетия. Достаточно вспомнить неоднократные попытки России и Беларуси создать общую валюту в рамках Союзного государства. Поэтому угроза Д. Трампа выглядит скорее, как упреждающее давление, чтобы не допустить в будущем ослабление гегемонии доллара.
Американские власти традиционно используют экономические рычаги как инструмент геополитического влияния. Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act — IEEPA) дает президенту США право в одностороннем порядке объявить экономическую чрезвычайную ситуацию и ввести практически любые меры — от санкций до запретительных тарифов. В условиях, когда некоторые страны БРИКС имеют значительный экспортный интерес на американском рынке, такая угроза приобретает вес. Так, 18% индийского экспорта направляется в США, тогда как в страны БРИКС — лишь 8%. У Китая аналогичная картина: 15% поставок — в США, против 9% — в БРИКС. Для Бразилии же ситуация более сбалансирована: около 33% внешней торговли приходится на страны БРИКС, а доля США не превышает 11%. Это означает, что торговые угрозы Вашингтона могут быть действительно чувствительны для ряда членов объединения, особенно Индии и Китая, и рассматриваться ими как фактор политического давления.
Тем не менее стратегическая эффективность подобного подхода вызывает сомнения. В условиях глубокой взаимозависимости современной экономики введение 100% тарифов может ударить не только по экспортерам из стран БРИКС, но и по американским компаниям и потребителям. Исторически тарифы работали в эпоху ограниченной глобализации, но сегодня, когда цепочки поставок распределены по всему миру, такие меры становятся обоюдоострым оружием. Даже эмбарго против Ирана и Венесуэлы, введенные в первый срок президентства Д. Трампа, показали ограниченную результативность: эти страны нашли способы переориентации торговли и диверсификации партнеров.
Таким образом, если Д. Трамп и попытается реализовать политику тарифного давления против БРИКС, он, безусловно, найдет повод — даже если он будет экономически надуманным или политически символическим. Однако подобные шаги не гарантируют достижения заявленных целей. Напротив, они могут лишь ускорить институциональное укрепление БРИКС, усилить мотивацию к дедолларизации и стимулировать формирование альтернативной финансово-расчетной инфраструктуры, менее уязвимой перед американскими санкциями и политикой экономического шантажа.
БРИКС как геополитический вызов?
Для стран БРИКС сегодня на первый план выходит не столько экономическая выгода, сколько стратегическая и геополитическая координация. Именно эта составляющая превращает объединение из платформы прагматичного сотрудничества в потенциально системный вызов для сложившегося миропорядка. Парадоксально, но именно агрессивная, изолирующая и санкционно-наказательная политика Вашингтона стала катализатором сближения между государствами, которые ранее придерживались разнонаправленных внешнеполитических ориентаций. Страны, которых США системно пытаются изолировать и лишить доступа к ключевым каналам мировой торговли и финансов, логично начинают искать пути консолидации. Они объединяются не столько из идеологических соображений, сколько из инстинкта политической и экономической самозащиты.
Рост влияния БРИКС объективно не дает покоя Вашингтону. Но вина за это лежит не на самих странах объединения. Именно США, приостановив доступ ряда государств к международной финансовой системе, заморозив резервы и отключив Россию от SWIFT, тем самым вынудили эти страны разрабатывать альтернативные механизмы обеспечения внешнеэкономической стабильности. Введение 10% дополнительных тарифов, а также угроза полномасштабной тарифной войны в адрес БРИКС, брошенная Д. Трампом, ставит под удар не только страны объединения, но и десятки других государств, завязанных на многосторонние торговые связи. С начала 2025 г. Белый дом стал проводить политику резких колебаний: то вводя импортные пошлины, то временно отменяя их в надежде на уступки. Эта непоследовательность сбивает с толку даже лояльных партнеров США. Кроме того, с 1 августа 2025 г., согласно подписанному указу Д. Трампа, против 69 стран-партнеров были введены пошлины, их ставка составит от 10% до 41%. Такая тактика скорее говорит о кризисе стратегического планирования в Вашингтоне, нежели о выверенной линии внешнеэкономического давления.
Особенно наглядно это проявилось на саммите БРИКС в Бразилии 2025 г., где наиболее жесткую политическую позицию занял Иран — страна, пострадавшая от американского давления в самой прямой форме. Глава иранского МИД А. Арагчи подчеркнул, что БРИКС призван играть ключевую роль в обеспечении справедливого мирового порядка, основанного на недискриминации и взаимном уважении. По его словам, «мир и безопасность — не только фундамент инклюзивного и устойчивого развития, но и условие построения более гуманной и справедливой международной архитектуры». БРИКС не просто выстраивает альтернативные финансовые и торговые маршруты, это объединение формирует новую повестку, в которой экономическое давление со стороны гегемона не блокирует развитие, а стимулирует институциональное укрепление и политическую субъектность глобального Юга. Именно это и является тем, чего Вашингтон, возможно, опасается больше всего.
БРИКС+ как контур нового мирового порядка
Политика Д. Трампа вносит элемент напряженности как в отношения США с государствами глобального Юга, но и в ткань западной коалиции, включая «Группу семи». Декларируя приоритеты «экономического национализма» и демонстрируя пренебрежение к обязательствам в рамках международных соглашений, Вашингтон под руководством Д. Трампа все чаще действует вразрез с интересами своих традиционных партнеров по «Группе семи». Это усиливает внутренние противоречия между странами группы и подрывает доверие к США как к гаранту прежней архитектуры мировой стабильности. Речь идет не о случайной политической риторике, а о системных изменениях, затрагивающих основы глобального порядка. Однополярная модель, сложившаяся после окончания холодной войны и опиравшаяся на американское лидерство, начала давать сбои задолго до прихода Д. Трампа в Белый дом. Тем не менее именно его администрация с особым упорством начала демонтаж той глобальной системы норм, институтов и союзов, которую Вашингтон сам же в свое время создал. США перестают быть «архитектором» порядка и все больше выступают как его ревизионист, но уже не с позиции глобального коллективного блага, а в рамках собственных краткосрочных интересов.
Особое беспокойство у «глобального Севера» вызывает размывание устойчивости таких альянсов, как НАТО. Под вопрос ставятся не только принципы коллективной обороны, но и сама стратегическая солидарность. Факт того, что Европейский союз усиливает дискуссии о собственном военном бюджете и разрабатывает концепции стратегической автономии, в том числе в оборонной сфере, свидетельствует о снижении уверенности в американских гарантиях. Это объективно расшатывает единство G7 и создает предпосылки для внутреннего раскола, особенно на фоне усиливающихся расхождений по вопросам торговли, климата и взаимодействия с Китаем.
В этой нестабильной конфигурации набирает силу альтернативный контур — БРИКС+, выступающий в роли потенциального столпа нового многополярного мира. Страны этого расширенного объединения пока еще не предлагают четко артикулированную повестку, но им уже удалось выработать важное общее основание: стремление к отказу от диктата Запада в международных делах. Объединенные не столько идеологией, сколько опытом внешнего давления и санкционного принуждения, участники БРИКС+ все более ясно артикулируют, против чего они выступают — против продолжающегося доминирования Запада, против иерархичности в принятии решений и против исключительности подходов, навязываемых через старую систему институтов.
Таким образом, мы наблюдаем ускорение процесса стратегической перегруппировки. Позиции США и их союзников внутри G7 становятся все менее согласованными, тогда как БРИКС+ постепенно формирует зачатки собственной институциональной модели. В этих условиях переход от однополярности к многополярности уже не выглядит гипотетическим сценарием, а становится структурной реальностью, к которой адаптируются как государства, так и международные организации. Если G7 все чаще демонстрирует симптомы эрозии, то БРИКС+ становится площадкой, где вырабатываются альтернативные принципы глобального взаимодействия, пусть пока не завершенные, но все более востребованные.
Меры, направленные на принуждение и экономическое устрашение, лишь усиливают стремление стран объединения к стратегической автономии и поиску устойчивых форм взаимодействия вне зависимости от воли глобального гегемона. Проще говоря, тарифная эскалация со стороны США может непреднамеренно ускорить процессы консолидации БРИКС+, придать им дополнительную легитимность и трансформировать объединение из координационной платформы в полноценный центр силы в условиях формирующегося многополярного порядка.
Заключение
Стратегия давления, которую уже начал реализовывать Д. Трамп в виде тарифных войн или иными мерами (судя по всему, тарифами он не ограничится), не в состоянии изменить те базовые параметры складывающейся мировой архитектуры, которые мы сегодня наблюдаем. Геополитический сдвиг в сторону полицентричности носит не ситуативный, а системный характер. Возврат к однополярной модели невозможен не только по политическим, но и по структурным причинам: возрастает роль стран глобального Юга, ускоряется фрагментация глобальной экономической системы, а прежние механизмы глобального управления утрачивают универсальность и легитимность.
В этом контексте БРИКС выступает не просто в качестве клуба развивающихся стран, а как прообраз институциональной платформы, способной артикулировать интересы широкой коалиции государств, не желающих больше функционировать по правилам, навязанным Западом.
Безусловно, перед объединением стоит огромный объем работы: необходимо преодолеть внутренние разногласия, институционализировать механизмы координации и принятия решений, обеспечить эффективность в оперативном реагировании на глобальные вызовы (от энергетической трансформации до валютной нестабильности). БРИКС должен трансформироваться из форума политических деклараций в устойчивый геоэкономический субъект с собственными нормами, стандартами и финансово-экономической инфраструктурой.
В рамках БРИКС сегодня взаимодействуют государства с зачастую противоположными стратегическими интересами: Китай и Индия — два конкурирующих глобальных центра силы; Иран и ОАЭ — ведущие страны региона Ближнего Востока с различными взглядами на безопасность в Персидском заливе, но при этом находящие общий язык друг с другом благодаря кооперации в рамках БРИКС, и, наконец, Турция — член НАТО, которая открыто проявляет интерес к присоединению к объединению и уже получила статус «страны-партнера» БРИКС наряду с 10 другими. Этот политический плюрализм не ослабляет, а напротив, подчеркивает привлекательность БРИКС как универсальной площадки для стран, стремящихся к большей субъектности в глобальной политике.
БРИКС — не временное объединение, а один из фундаментальных элементов будущего постгегемониального мирового порядка, в котором баланс интересов, институциональное равноправие и политическая суверенность будут определять архитектуру международных отношений.
РСМД. 09.09.2025