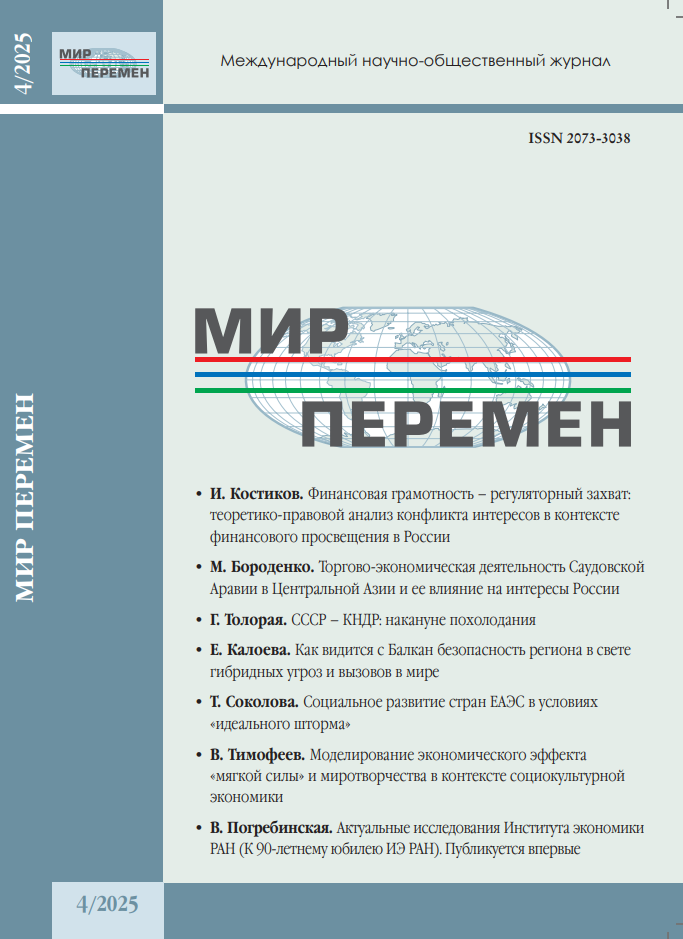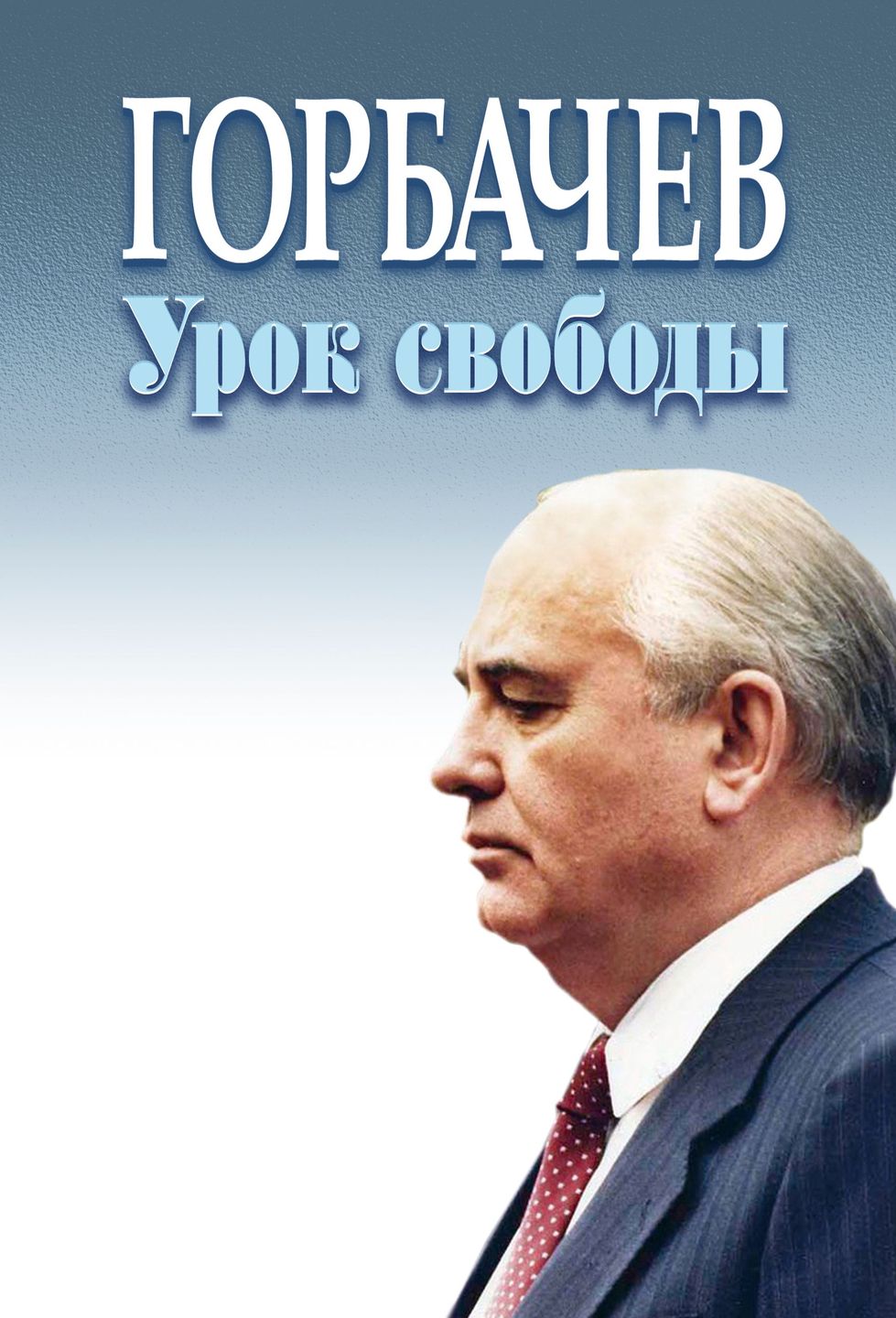Управляемая сложность как путь Евразии
Антон Беспалов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», заместитель главного редактора сайта valdaiclub.com.
Стремление стран Евразии к стратегической автономии и поиск альтернативных путей развития сталкиваются с зависимостью от унаследованных систем – будь то технологические платформы, финансовые механизмы или язык описания мира. Хаос страшит, вызывает ностальгию по утраченному порядку и желание построить новый по привычным лекалам. Но вряд ли это возможно. Ключевой вызов для Евразии в том, чтобы найти в себе смелость и интеллектуальные ресурсы для формирования собственного видения полицентричного мироустройства, пишет Антон Беспалов. Статья подготовлена по итогам XVI Азиатской конференции клуба «Валдай».
10–11 ноября в Стамбуле прошла XVI Азиатская конференция клуба «Валдай». Место проведения определило повестку мероприятия – в городе, расположенном на двух континентах, просто невозможно обсуждать азиатские дела в отрыве от широкого евразийского контекста. Тематика конференции тесно связана с прошедшим ранее XXII Ежегодным заседанием клуба, участники которого размышляли, что означает вступление мира в эпоху полицентричности. Именно связанные с этим вызовы и возможности для Евразии были в фокусе стамбульских дискуссий.
Темой вступительной сессии конференции, которая прошла в закрытом режиме вечером 10 ноября, стало обсуждение обретшего популярность в последние годы феномена средних держав, отличительной чертой которых считают стремление к стратегической автономии. Само по себе понятие вызывает немало споров. Существуют ли количественные параметры, позволяющие отделить среднюю державу от малой? И, если да, то какие: население, военная мощь, способность влиять на международную политику – но лишь в определённой, характерной для данной категории государств, степени? Статус средней державы всегда обладал неким шармом, позволяя странам дистанцироваться от эксцессов «великодержавной» политики, но подчеркнуть свою особую роль на мировой арене. Помогает ли подобная самоидентификация пониманию международных процессов?
Все эти вопросы вызвали горячие дискуссии. Однако, несмотря на различия в определениях, участники сошлись, что роль средних держав возрастает в периоды кризиса (или, пользуясь валдайской терминологией, осыпания) мирового порядка. Именно такой период мы переживаем сегодня. Он характеризуется утратой Западом безусловного политического, экономического и технологического первенства, которое на протяжении веков было определяющей чертой международной жизни. Средние державы далеко не едины в своём отношении к этому процессу: многие видят в нём реальные угрозы и риски для себя, и именно желанием хеджировать риски объясняется их растущее стремление к субъектности на мировой арене.
В обсуждении приняли участие представители экспертных сообществ Центральной и Южной Азии, региона Персидского залива – и, разумеется, принимающей стороны. Турция на протяжении десятилетий остаётся хрестоматийным примером средней державы, которая тщательно просчитывает свою стратегию в сложной международной среде и демонстрирует недюжинную способность геополитического маневрирования. Кстати, именно по предложению турецкого соорганизатора конференции – Института Анкары – в названиях сессий появилось выражение (бес)порядок, отражающее как поиск новых возможностей, так и осторожность по поводу происходящих в мире изменений.
Роль Евразии в складывающемся глобальном (бес)порядке стала темой первой, открытой, сессии конференции (запись трансляции доступна на нашем сайте). Директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан сформулировал центральную дилемму для стран Евразии как выбор между неуправляемым хаосом и управляемой сложностью. Логичной стратегией для большинства – представленного как раз средними державами – является трансакционный минилатерализм. Иными словами – выбор ограниченного числа партнёров, наиболее важных для решения какой-то конкретной проблемы, и готовность легко менять их конфигурацию по мере изменения ситуации. Это действительно мало напоминает международный порядок в привычном понимании. США как слабеющий (впрочем, не так стремительно, как хотелось бы многим незападным акторам) гегемон не являются безучастным наблюдателем. По выражению Озхана, Вашингтон «вепонизирует все узкие места», что, с одной стороны, увеличивает риски, а с другой – парадоксальным образом ведёт к повышению востребованности США в решении конфликтов, так как немногие страны готовы брать ответственность на себя.
Как показали дискуссии в ходе сессии, США остаются востребованным и на уровне концепций. Эксперты не раз обращались к полузабытому понятию «большой двойки» (G2). Оно вновь введено в политический оборот Дональдом Трампом, который именно так охарактеризовал встречу с Си Цзиньпином в Пусане в конце октября. Предполагаемая стабильность и предсказуемость биполярной системы выглядят привлекательно во многих уголках Евразии, но примечательно, что сам Китай всегда относился к этой идее подчёркнуто холодно, видя в ней обманный манёвр Вашингтона. Тем более неприемлема она для других крупных держав. Бал Кришан Шарма, генеральный директор Объединённого института оборонных исследований Индии, подчеркнул, что нет и не может быть страны, которая руководила бы процессами в Евразии, и предложил – явно посылая мяч северным соседям – термин «мультиполярность с евразийскими характеристиками».
Программа конференции не включала в себя сессию, посвящённую технологиям, но показательно, что тему затронули в рамках дискуссий о глобальном (бес)порядке. Действительно, развитие технологий играет ключевую роль в позиционировании стран Евразии на мировой арене, а доминирующим трендом будет стремление к технологическому суверенитету. По словам Алексея Куприянова, руководителя Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН, задача стран Евразии – не допустить технологического колониализма. Впрочем, это одна сторона медали. Как известно, даже такой образец незападного технологического прорыва, как DeepSeek, склонен «рассуждать» (если это слово применимо к искусственному интеллекту) в категориях западных общественных наук, и это будет представлять немалую проблему в обозримой перспективе. Именно поэтому необходимо формировать собственный евразийский дискурс и не смотреть на мир западными глазами. Пока же имеет место эпистемологическое доминирование Запада в глобальном информационном пространстве, а ИИ как зеркало отражает этот дисбаланс.
Вторая сессия (также открытая) была посвящена российско-турецким отношениям в контексте новой геополитики Евразии – феномену, который директор по научной работе клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов назвал «геополитическим чудом». Действительно, две страны способны управлять противоречиями и поддерживать взаимодействие, несмотря на крайне конфликтную историю, редкое совпадение интересов и периодические кризисы. Словно в подтверждение этому российские и турецкие участники сессии продемонстрировали различную расстановку приоритетов при обсуждении данной темы. Российские спикеры указывали на возможности, которые открываются перед Турцией, благодаря охлаждению отношений обеих стран – хотя в разной степени и по разным причинам – с Западом, а также на их культурно-цивилизационную близость. Турецкие, не отрицая этого, подчёркивали важность институциональных связей с Западом и говорили о переосмыслении роли членства в НАТО с точки зрения стратегических интересов Анкары.
Как отметила Эврен Балта, научный директор Глобального политического форума TUSIAD, после 2022 года возросла сплочённость Североатлантического альянса, что существенно сузило Турции поле для манёвров и повысило издержки взаимодействия с Россией. Однако, несмотря на формально общее восприятие угроз, Анкара проявляет специфические обеспокоенности. Так, в контексте последних событий на Ближнем Востоке, американское тактическое ядерное оружие, размещённое на авиабазе Инджирлик, становится гарантией того, что Турция не станет целью ударов Израиля подобно Катару, полагает Серхат Гювенч, декан факультета международных отношений Университета Кадир-Хаса.
Если в России ослабление западной гегемонии традиционно видится как благо для международной системы, то в Турции отношение не столь однозначно. На вопрос «что придёт ей на смену?» пока нет однозначного ответа, но, судя по выступлениям турецких экспертов, одним из желаемых вариантов было бы укрепление регионализма, которому пока недостаёт институциональной базы. Между тем развивается взаимодействие на минилатеральной основе: по словам Гювенча, «средние державы ищут единомышленников своего ранга».
Эти процессы подробно обсуждены в ходе закрытой сессии, посвящённой региональным взаимосвязям и изменению регионального порядка. Наиболее горячие дискуссии предсказуемо вызвала ситуация на Ближнем Востоке, где формируется новая конфигурация сил.
По словам одного из участников, Израиль теперь воспринимается как общая угроза для всего арабского мира, и это ведёт к таким нетривиальным решениям, как пакистанский ядерный зонтик для Саудовской Аравии, и большей готовности рассматривать Иран в качестве части единой структуры безопасности для арабских стран.
Непосредственное отношение к теме региональных связей имела и сессия, посвящённая транспортным коридорам Евразии. Участники обсудили как экономические, так и геополитические аспекты повышения инфраструктурной связности континента.
Последняя сессия конференции была посвящена БРИКС как одной из потенциальных опор складывающейся международной системы. Рост популярности БРИКС в мире на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях России и Запада является одним из парадоксов нашего времени. Перспективы сообщества, которое не имеет жёсткой институциональной структуры и до сих воспринимается скорее как площадка для диалога, всегда расценивались на Западе довольно скептически. Но эмоциональные заявления Дональда Трампа, который регулярно указывает на угрозу глобальному влиянию США со стороны БРИКС, стали своего рода признанием. Впрочем, широко распространено мнение, что именно Трамп своей внешнеэкономической политикой способствует повышению внутренней сплочённости стран БРИКС и привлекательности объединения для третьих игроков. Об этом, в частности, пишет Джим О'Нил, автор изначальной аббревиатуры БРИК, в своей статье с показательным заголовком «Является ли Трамп секретным агентом БРИКС?».
Как отмечено в ходе сессии, участие в БРИКС не даёт немедленных экономических бонусов, но обеспечивает диверсификацию и смягчение рисков. А также, что немаловажно, позволяет избежать столкновения с США один на один. Вместе с тем, по словам одного из участников, БРИКС стоит похвалить за отсутствие антизападной риторики и конфронтационности, а главное – прямых атак на доллар. Альтернативные финансовые механизмы и инструменты сбережений, необходимость в которых давно назрела, должны запускаться постепенно. Однако рано или поздно настанет момент истины – когда Китай осознает, что больше не может поддерживать существующую систему вместо создания альтернативы.
Подводя итоги конференции, можно отметить, что лейтмотив дискуссий – констатация окончания эпохи западного доминирования. Однако контуры будущего размыты. Стремление к стратегической автономии и поиск альтернативных путей развития сталкиваются с зависимостью от унаследованных систем – будь то технологические платформы, финансовые механизмы или язык описания мира. Хаос страшит, вызывает ностальгию по утраченному порядку и желание построить новый по привычным лекалам. Вряд ли это возможно. Ключевой вызов для Евразии в том, чтобы найти в себе смелость и интеллектуальные ресурсы для формирования собственного видения полицентричного мироустройства.
Международный дискуссионный клуб"Валдай". 18.11.2025