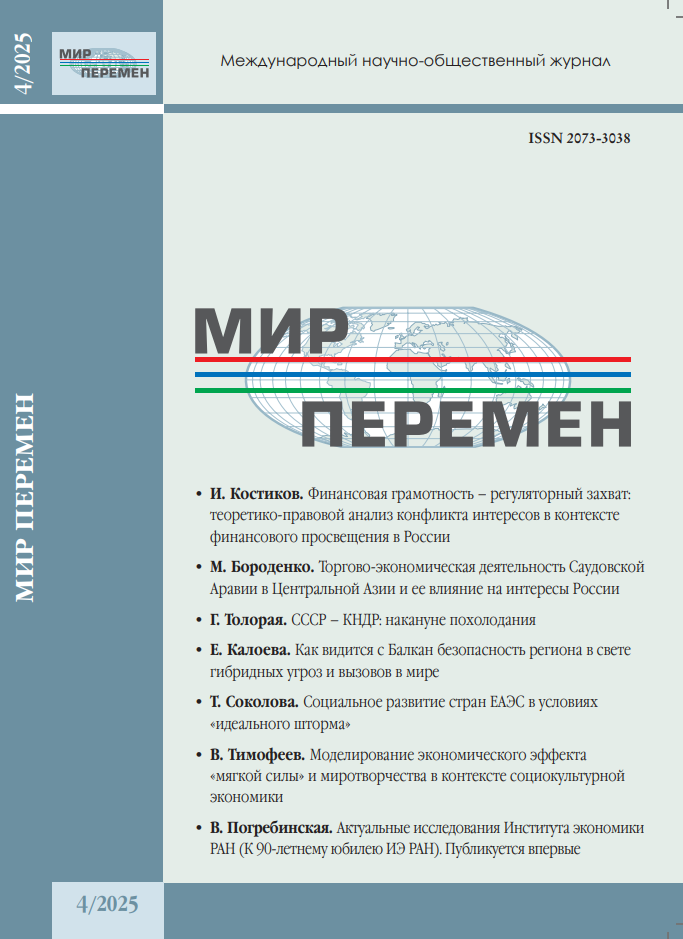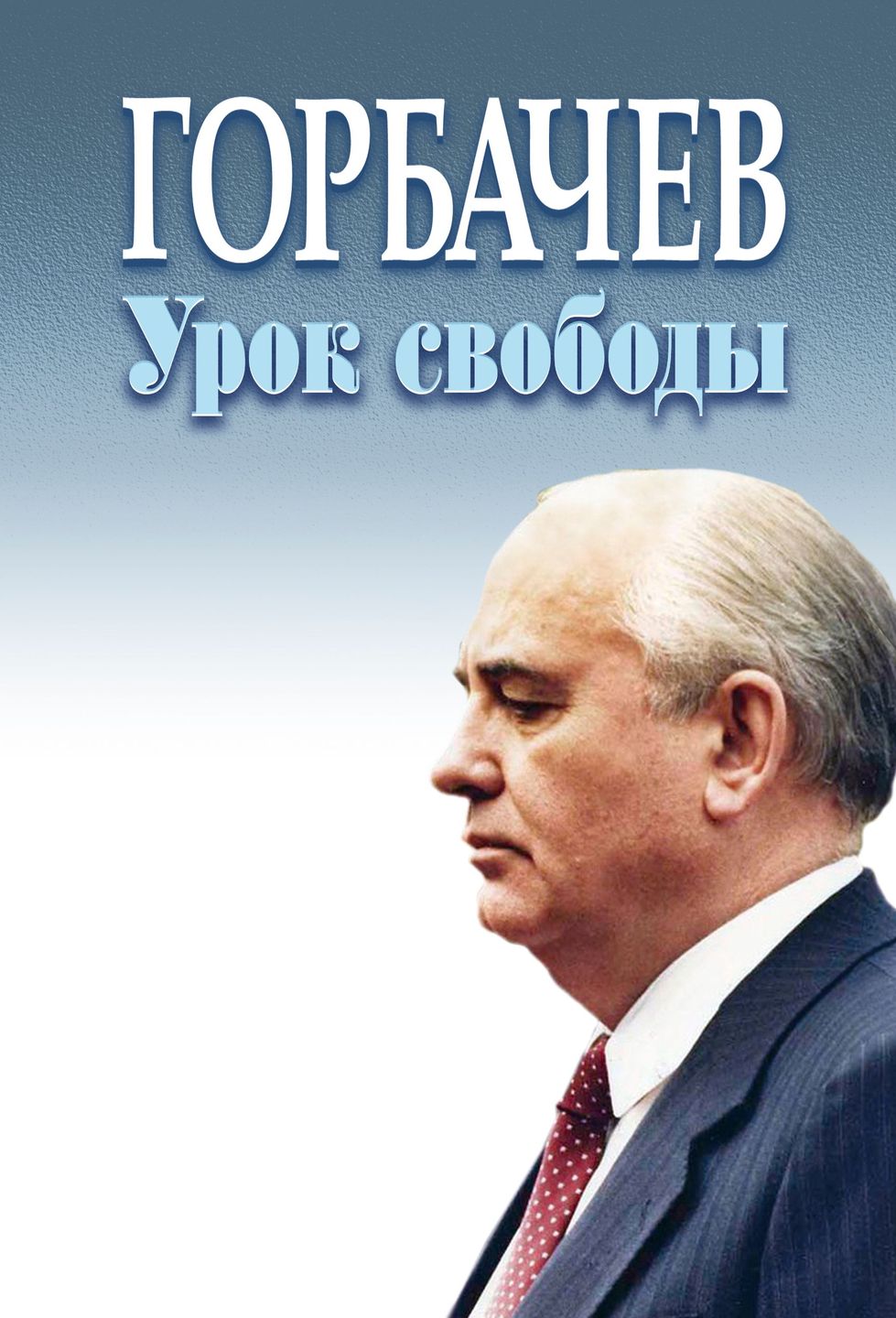Расхищение Европы
Илья Фабричников, преподаватель МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант
Этот материал был уже готов и отправлен на публикацию, когда вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Венс произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой, по словам многих европейских наблюдателей (как в частной переписке, так и в социальных сетях), буквально «бросил Европу под автобус».
Вообще, американские выступления в Мюнхене сложно трактовать как-то многозначно: Европейский союз должен взять на себя всю полноту ответственности за безопасность своего региона, не рассчитывать на американскую военную мощь, забыть о применимости 5 статьи в случае размещения своих военных подразделений на Украине, а европейских лидеров в целом не ждут за столом переговоров по урегулированию украинского вопроса.
В российском публичном (если не сказать «популярном») экспертном анализе до сих пор широко распространено мнение, что Европейский союз в его украинской политике малосубъектен и фактически подчинен устремлениям Вашингтона. Или (в крайнем конспирологическом случае) некоего «глубинного» Лондона: «коварные англосаксы» диктуют слабым и зависимым европейским политикам свою волю в том, что касается поставок на Украину вооружений, военной техники, обучения военного персонала, финансирования государственного аппарата для реализации «англосаксонских» политических устремлений.
Существует и другой устойчивый смысловой конструкт: ЕС на Украине послушно обслуживает интересы некоей мировой либеральной закулисы, которой управляют «глобалисты», получающие приказы непосредственно с Уолл-стрит – от инвестиционных фондов Black Rock, Vanguard и State Street. А весь «украинский проект» – результат работы американских и в какой-то степени британских «фабрик мысли» и разведывательных служб, ориентированных на нанесение «стратегического поражения» Российской Федерации.
Почти каждая публичная экспертная и политологическая дискуссия неизбежно отказывает европейским странам в праве на ведение собственной политики на современном кризисном этапе международных отношений. Почему-то считается, что «взвешенная» и «суверенная» политика Евросоюза обязательно должна предполагать тесное взаимодействие (по крайней мере в сфере энергетического импорта) с Российской Федерацией для поддержания устойчивого европейского энергобаланса и обеспечения сбыта европейской технологической продукции. Но, понукаемые «вашингтонским обкомом» европейские страны вместе и по одиночке, словно околдованные, продолжают отказываться от очевидных любому здравомыслящему наблюдателю плюсов взаимодействия с Россией: дешёвых энергоносителей и естественного рынка для экспорта.
Резюмируется, что Европе конфликт на Украине был не очень-то и нужен, поскольку неизбежно приводил ЕС к значительным экономическим потерям от взаимных санкций, прекращения поставок товаров и энергоносителей, а также к существенным затратам на финансирование боевых действий. Но Европа, связанная «союзническими обязательствами» по линии НАТО, в особенности ключевые европейские страны и институты, десятилетиями определявшие политику на европейском континенте, были вынуждены в едином порыве пойти поперек собственных национальных и экономических интересов, пренебречь избирателями, подвергнуть их изощрённой пропагандистской обработке, вынужденно создать образ врага в лице России и ее руководства. И все только для того, чтобы поддержать устремления то ли «мирового гегемона», то ли «либерального обкома», то ли зловещих транснациональных корпораций, включиться в масштабное противостояние, презрев собственные интересы.
Однако же, если абстрагироваться от информационных клише и ложных подсказок в виде сальдо торгового баланса (в 2021 г. российско-европейский торговый оборот составлял 247,8 млрд евро, из которых поставки стран ЕС в РФ – 89,3 млрд евро, а российский экспорт в ЕС – 158,5 млрд евро), объемов поставок газа (145 млрд м3, со средней ценой 274 доллара США за 1 тысячу м3 против нынешней – свыше 500 долларов США) и взглянуть на чисто политическую составляющую в российско-европейских отношениях, рисуется иная картина.
А картина такова: политическим освоением и российского пространства, и пространства стран СНГ (с основным фокусом на Украину, Белоруссию, Грузию и Армению) на протяжении последних тридцати лет занимались преимущественно ЕС и отдельные европейские страны – как напрямую, так и через подконтрольные им некоммерческие организации (НКО).
Здесь необходимо подчеркнуть: под Европой автор понимает именно так называемые «общеевропейские институты» – представителей объединенного европейского субъекта, которые претендовали на определяющую роль во всем евразийском регионе.
Согласно отчету Европейской палаты аудиторов от 2016 г., только ЕС в период с 2007 по 2014 гг. и с 2014 по 2020 гг. направил и планировал направить на поддержку Украины около 16 млрд евро, предназначенных преимущественно для поддержки различных секторов украинской экономики и продвижение экономических реформ. По линии подготовки Украины к вступлению в ЕС за период с 1991 по 2016 гг. потрачено (только в грантовых взносах со стороны структур ЕС) еще около 5 млрд евро.
В период с 2014 по 2022 гг. немецкое правительство предоставило Украине грантов и гарантий по займам на сумму свыше 1,3 млрд евро. Всего за период 1991–2016 гг. по линии ЕС и европейских стран, согласно оценкам Chatham House, Украине предоставлена безвозмездная помощь для целей развития в размере, превышающем 7,7 млрд долларов США, что составило почти 40 процентов от всей помощи, поступившей по этой линии. Тут необходимо иметь в виду, что свыше 60 процентов помощи поступило по линии «Группы семи». Кроме того, отдельно грантовую поддержку Украине оказывали Япония, Соединенные Штаты, Канада. Таким образом, удельный вес всей европейской помощи (с учетом прямой помощи европейских стран G7) может превышать показатель в 55 процентов.
С начала боевых действий на Украине Евросоюз и европейские страны по отдельности (по состоянию на ноябрь 2024 г.) предоставили по правительственной линии помощи Украине на 174 млрд евро. Это включало в себя поставки вооружения и боеприпасов, прямое финансирование украинского правительства и гуманитарную помощь. Причем в основном это прямое финансирование и прямые же поставки, без свойственного американской помощи «финансового фристайла», когда в зачет шли многочисленные схемы по финансированию производств внутри, собственно, самих США.
Для сравнения – американское финансирование Украины в период с 1991 по 2020 гг. (по разным линиям – от Государственного департамента до USAID) в целом составляло около 225 млн долларов США, включая также ежегодные кредиты МВФ. Всего к 2014 г. Соединенные Штаты отправили на развитие Украины около 5 млрд долларов США. Более точные цифры получить затруднительно, но масштаб понятен.
С началом боевых действий на Украине США, хотя и занимались активными «пиар-интервенциями», подчеркивая значимость своего содействия, в реальности предоставили Киеву всего около 106 млрд долларов США, из которых прямая помощь украинскому бюджету составила около 33,6 млрд, а военная помощь (поставки вооружений и военной техники и затраты на обучение – с учетом внутреннего американского финансирования поставок и производства) – 69,8 миллиарда. И это по состоянию на октябрь-ноябрь 2024 года.
Таким образом, невооруженным глазом видно, что содействие США заметно уступает помощи европейской. Как во время острой фазы конфликта последних трех лет, так и в ретроспективе.
Почему так, если расхожее мнение гласит, что именно Вашингтон является и основным спонсором, и основным политическим «закоперщиком» военного кризиса на Украине? Рискнём предположить, что медийная картинка не вполне соответствует реальному положению дел. Сделаем ещё более рискованное предположение: основным «заказчиком» украинского военного кризиса является именно Европейский союз. И главную скрипку в принятии судьбоносных для общеевропейского дома решений играли не главные европейские экономики, а именно центральные институты Европейского союза, которые за последние пять-шесть лет сосредоточили невиданное до этого административное, финансовое и политическое влияние на европейскую политику.
Подтверждение тому следует искать в области международных отношений, внешнеполитических коммуникаций и целого ряда совпавших друг с другом политических и электоральных факторов, корни которых уходят даже не в 2014, а в 2008 или 2004 годы.
В плену у «нулевой суммы»
Американская администрация никогда не была основным бенефициаром процессов, происходивших на Украине. Наиболее чувствительный вопрос в украино-американских отношениях снят в 1994 г. подписанием «Будапештского меморандума» и ликвидацией запасов ядерного оружия и стратегических средств доставки, размещённых на украинской территории. Структуры будущего Евросоюза начали финансово-политическое освоение украинской территории уже со 2 декабря 1991 года. За последующие тринадцать лет между Украиной и ЕС были подписаны свыше десяти основополагающих документов политико-экономического сотрудничества, Украина была признана «страной с рыночной экономикой», активно развивались интеграционные процессы. На европейские структуры с 2006 г. приходилось 36–42 процента товарного экспорта и 70–80 процентов от всех иностранных инвестиций в страну.
Европейские исследователи отмечают, что с 1991 по 2015 гг. на поддержку трансформационных процессов на Украине через структуры Евросоюза направлено свыше 12 млрд евро в «займах, грантах и «технической помощи»», а поддержка со стороны институтов отдельных европейских стран «вообще не поддаётся точному исчислению в связи с отсутствием общественно-доступных данных».
В то же время объем прямой финансово-гуманитарной поддержки украинских институтов американским правительством в период с 1992 по 2020 гг. (в том числе и по линии USAID) составил около 9,5 млрд долларов США. С высокой долей уверенности можно сказать, что упомянутые «главной по Украине», заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд в феврале 2014 г. 5 млрд, предположительно «инвестированных» в «революцию достоинства», в эту сумму вошли. 4,9 млрд поступили в страну уже после событий на Майдане 2014 года.
Сознательно не упоминаем в материале финансирование украинского гражданского активизма и НКО по линии NED (The National Endowment for Democracy – находится в перечне иностранных и международных неправительственных организаций от 29.07.2015, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации), Open Society (Open Society Foundation – находится в перечне иностранных и международных неправительственных организаций от 01.12.2015, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации), грантов немецких партийных центров и прочих европейских институтов: на фоне «институциональных инвестиций» их объемы, хоть и значительные, все же теряются. К примеру, NED (The National Endowment for Democracy – находится в перечне иностранных и международных неправительственных организаций от 29.07.2015, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации) вложил в общественные проекты на Украине с 2014 по 2019 гг. порядка 22,4 млн долларов США, «Открытое общество» (Open Society Foundation – находится в перечне иностранных и международных неправительственных организаций от 01.12.2015, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации) – свыше 230 млн долларов США с 2013 по 2023 годы. Европейские политические фонды объемы своей помощи не раскрывали, но, к примеру, у «Фонда Конрада Аденауэра» (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – находится в перечне иностранных и международных неправительственных организаций от 14.08.2024, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации) было целых два региональных офиса (в Киеве и Харькове), а с 1994 г. им на Украине реализованы сотни проектов и программ по «продвижению демократии».
Основными операторами урегулирования основных украинских внутриполитических кризисов (2004 и 2014 гг.) европейцы были наравне с американцами: гарантии бывшему президенту Януковичу в 2014 г. вообще подписывали только европейские министры иностранных дел – Радослав Сикорский, Франк-Вальтер Штайнмайер и заместитель министра иностранных дел Франции Доминик Фурье. Главными соподписантами «Минских соглашений» также были «локомотивы Европы»: Германия и Франция.
Хотя представители США играли значительную роль в выстраивании конфигурации власти после государственного переворота 2014 г., «фронтменами» политического урегулирования они не являлись, скорее играя роль политико-силовой поддержки.
Если же оценить интенсивность политических контактов с момента начала специальной военной операции, то мы увидим, что европейские лидеры (включая начальство ЕС из Брюсселя) совершили свыше ста визитов в Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за время боевых действий приезжала в Киев 8 раз. И это только первые лица – без учета визитов министров иностранных дел или министров обороны. Для сравнения: госсекретарь США Энтони Блинкен за три года боевых действий приезжал 5 раз. Разница в интенсивности контактов очевидна.
То же касается и поставок вооружений и военной техники, обучения персонала. Так, в танках разница в заявленных (фактических и запланированных) поставках между ЕС и США – в 8 раз (587 против 76), по 155-мм артиллерийским системам – разница в треть (284 против 201), по РСЗО – паритет (37 против 39). Истребители пока поставляют исключительно европейские страны (хотя значительная часть поставок оплачена из бюджета Пентагона), а крылатые ракеты в основном идут из Франции и Великобритании. По боеприпасам (кроме, пожалуй, ПЗРК) и прочим «расходникам» преимущество Европы в сравнении с США и вовсе запредельное. Оставляем за скобками оформившееся было намерение президента Франции Эммануэля Макрона отправить сухопутные подразделения вооружённых сил страны в Одесскую область или аналогичные британские инициативы.
Беглый анализ позволяет говорить, что именно страны ЕС с самого начала конфликта на Украине играют основную роль в предоставлении не только политической, финансово-административной, но и непосредственно военной поддержки Киеву. Легко предположить, что именно они в этом более всего и заинтересованы.
Но почему же США фигурируют в международном и российском медиапространстве в качестве основного бенефициара и «заказчика» боевых действий? Этому может быть объяснение. Все изложенные ниже соображения носят спекулятивный характер – результат анализа позиций участников проекта поддержки правительства Владимира Зеленского. Подтвердить эти наблюдения фактурой сложно, в открытых источниках таких оценок не содержится, а к закрытым нет доступа. И тем не менее.
Для «коллективной Европы», представленной прежде всего брюссельскими институтами, инкорпорация Украины в состав ЕС была историческим шансом. Представляется, что «главным призом Европы» во всем украинском проекте был не потребительский рынок объемом в 45 млн душ, не мифические полезные ископаемые и даже не привлекательные агропромышленные возможности территории: в конце концов довоенный экспорт сельскохозяйственной продукции, выращенной и произведённой на Украине, составлял немногим более 22 млрд долларов США.
Можно предположить, что главным призом «украинского проекта» был контроль над Черным морем для превращения его в главный юго-северный транспортный коридор Европейского союза «от Одессы до Данцига». И не только для интенсификации торговли между ЕС и Африканским континентом, Индией, странами Ближнего Востока, но и для существенного повышения маржинальности этой торговли. Что, естественно, требовало в 2014 г. удаления из Крыма базы российского ВМФ. Однако, поскольку в 2014 г. «украинский проект» во всей его полноте реализовать не удалось, планы пришлось корректировать «вправо».
Что давал объединенной Европе контроль над черноморским коридором? Прежде всего – полноценность и куда большую международную субъектность. Россия была помехой, сохраняя серьезное влияние на две важные восточноевропейские страны – Белоруссию и Украину.
«Украинский проект» в случае успешной реализации превратил бы ЕС в полновесный мировой центр силы, способный через контролируемые им товарные потоки оказывать влияние на всю Евразию.
В связи с этим вхождение Крыма в состав России в 2014 г. и, соответственно, российский контроль за значительной частью акватории Чёрного моря рассматривались европейским истеблишментом как временная неурядица.
Осмелимся предположить, что США в «украинском проекте» играли преимущественно силовую роль. Евросоюзу, у которого наблюдается нехватка военного и разведывательного потенциала, был необходим партнер, способный взять на себя бремя чисто военного, оперативного противостояния с Российской Федерацией, военные, дипломатические и разведывательные возможности которой европейцы недооценили.
Вероятно, именно отсюда и родился тезис о «нанесении стратегического поражения РФ», провозглашенный и большинством европейских начальников, и с трибуны НАТО, и из Белого дома. Совпали политико-экономические интересы ЕС и военные устремления американского военно-политического истеблишмента, который получил шанс придвинуть свою военно-разведывательную инфраструктуру ближе к российским границам.
Нет, стратегическое поражение России, с высокой долей вероятности, не предполагало «расчленение» «коренной» российской территории: вряд ли ЕС на своих границах нужен был очередной источник неконтролируемой нестабильности. Это рассматривалось европейским высшим политическим классом скорее как создание возможности диктовать условия дальнейшего российско-европейского экономического сотрудничества, включая цены на нефть и газ, поступающие в Европу и питающие европейскую промышленность, сформировать рынок потребителя, а не продавца, способного диктовать условия поставок и цены. Для чего возникла необходимость втянуть российское военно-политическое руководство в конфликт, который для него, по замыслам «коллективных европейцев», подкрепленным американской союзнической поддержкой, закончился бы быстро и болезненно, после чего можно было бы диктовать максимально комфортные для европейской экономики условия урегулирования.
Что европейские начальники могли предложить американской администрации за военную поддержку на «украинском направлении»? Не только «долю» в самом «украинском предприятии». Европа с лихвой компенсировала военно-разведывательное вовлечение США закупками сжиженного природного газа, оплатой заказов на поставку вооружений и военной техники как европейским армиям, так и на украинский театр военных действий. Еще одним европейским вкладом в деятельное участие американской стороны, возможно, являлась и европейская поддержка американского проекта по сдерживанию Китая и поддержка в формировании «азиатской НАТО» для оказания масштабного военно-экономического давления на КНР при условии «выбивания» России из масштабного мирового противостояния.
В конце концов с трибун ЕС неоднократно заявлялось о необходимости противостояния «авторитарному» Китаю, хотя Китай для Евросоюза – важнейший потребитель товаров и услуг, несмотря на отрицательное для Евросоюза сальдо торгового баланса. Вероятно, расчет ЕС строился на том, что для поддержки устремлений США они могут ввести против КНР торговые пошлины на ключевую продукцию: электронику, телекоммуникационное оборудование, ширпотреб и электромобили, чтобы облегчить американское давление на Китай, размениваясь на американскую поддержку по Украине. Однако в свете затянувшихся (для Европы) боевых действий расклад драматически изменился.
Сегодня уже открыто говорят о деиндустриализации крупнейшей промышленной экономики Европы и донора всего ЕС – Германии – в свете отказа от российских энергоносителей.
А последние инициативы новой администрации Трампа и вовсе ставят ЕС перед непростым выбором: поддерживать киевскую военную машину в одиночку и без гарантий безопасности со стороны США (тогда как именно на эти гарантии – 5 статью Устава НАТО – в условиях противостояния с Россией, похоже, и делалась основная ставка) или же самим, вслед за главным партнером по европейской безопасности, снизить напряженность и примкнуть к переговорам с Москвой в надежде зафиксировать текущую ситуацию «на земле» – вернуться к status quo ante. Тем более что Белый дом настойчиво советует европейцам, прежде всего Брюсселю, начать задумываться о единоличном обеспечении собственной безопасности, не рассчитывая на поддержку со стороны США.
Европейская амбиция стать ключевым региональным центром силы, несмотря на все уже потраченные административные, финансовые и военные ресурсы, не сыграла. Отдает ли себе в этом отчет европейский истеблишмент в свете «сигналов» со стороны новой американской администрации? Возможно отдает, хотя, если анализировать высказывания руководителей ЕС, НАТО, Германии, верится с трудом. Однако набранная эскалационная инерция, подкреплённая европейским догматизмом, отчасти реваншизм европейской верхушки с целью пересмотреть остатки принципов «ялтинского мира» не позволяют Евросоюзу беспристрастно зафиксировать крах «украинского проекта». Это будет означать обрушение брюссельских устремлений стать одним из важных центров грядущего фрагментированного мира – центром, способным контролировать не только прилежащую к нему периферию в лице Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, но и собственные территории через механизмы прямого политического вмешательства.
Новая американская администрация сделает то, что делала последние полвека (Вьетнам, Ирак, Афганистан): сбросит балласт политических обязательств, проблем и потерь и переложит груз ответственности на региональные авторитеты, тем более, как мы уже услышали на Мюнхенской конференции по безопасности, – это не американская война и не американские обязательства, а сама Европа более не является для Белого дома внешнеполитическим приоритетом. А вот что делать Европейскому союзу, ввязавшемуся в игру, не соответствующую его военно-политическому и экономическому потенциалу, который зиждился, как теперь понятно, исключительно на стратегическом доступе к дешёвым российским энергоносителям и американскому военному зонтику?
Судя по европейской реакции на новости с полей мюнхенского мероприятия, на выход партнёров из проекта никто не рассчитывал, так как весь проект был сверстан с опорой на американские организационно-финансовые ресурсы. Европейские институты срочно «включают антикризис»: планируют собирать экстренные конференции и рабочие группы, чтобы определить дальнейший план действий. Но от «украинского проекта» пока никто в европейских коридорах власти отказываться не собирается. Напротив.
В этом свете рассудительные апелляции с российской стороны к европейской рациональности и выгодам партнерства, которое стало вынужденной жертвой «хозяйского» американского волюнтаризма три года назад, предстают в совершенно ином свете.
Россия в глобальной политике. 17.02.2025