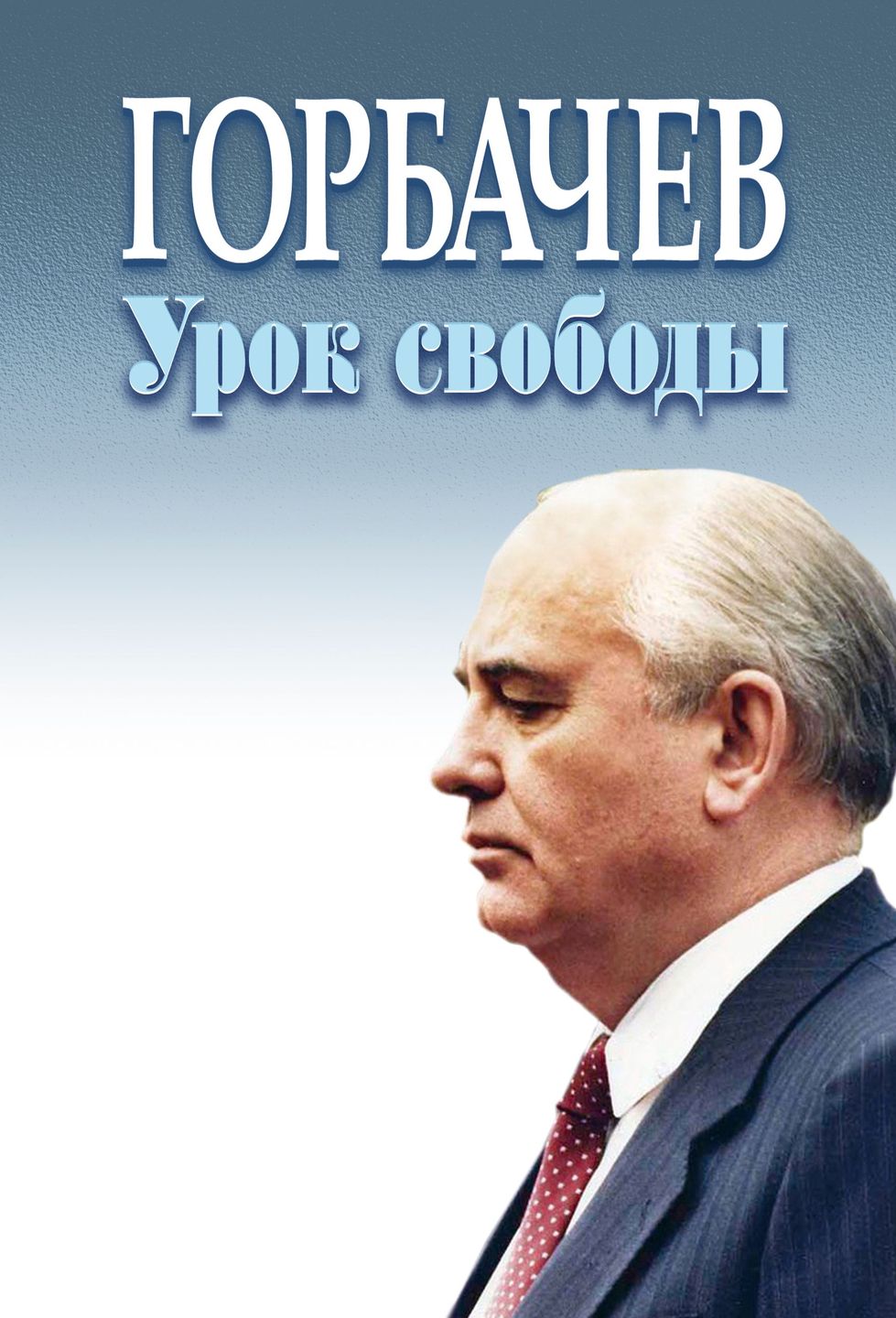Возвращение «Больших стратегий»
Владислав Иноземцев
Основатель и директор Центра исследований постиндустриального общества, член РСМД
Недавний визит в Москву советника президента США по национальной безопасности Дж. Болтона, посвященный вроде бы констатации выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г., неожиданно спровоцировал обсуждение глобальных вопросов о возможном возобновлении [союзничества между Россией и Западом. Поводом для этих рассуждений стало ощущение того, что пресловутая [Chimerica (термин, введенный в 2009 г. Н.Фергюсоном, — прим. автора) действительно оказалась химерой и за торговыми войнами между США и КНР может скрываться наконец-то материализовавшаяся озабоченность Вашингтона «возвышением» крупнейшей державы Азии, которая высказывалась прозорливыми экспертами давно[1] , но долгое время не «прорывалась» в политику. Однако рассуждения о потенциальном «возвращении» России в орбиту Запада выглядят на этом фоне, на мой взгляд, довольно наивно — и прежде всего потому, что их сторонники по большей части не рассматривают подобный поворот как часть больших геополитических стратегий, способных лечь в основу глобальных геополитических доктрин XXI века.
Попробую пояснить, что я имею в виду. Современная идеология международных отношений сформировалась в годы холодной войны на основании осмысления масштабного противостояния так называемых Запада и Востока, а точнее — капиталистической и коммунистической систем. После распада Советского Союза довольно быстро выяснилось, что политики большинства ведущих стран некомфортно ощущают себя в мире, где у них нет явных внешнеполитических противников. Образ врага оказался востребован уже к концу первого «пост-исторического» десятилетия, и вакантное место очень своевременно было заполнено «международным терроризмом» в самом начале 2000-х гг[2]. Но вскоре выяснилось, что каждый вкладывает в это понятие свой особенный смысл, равно как и совершенно различным образом определяет субъектов «терроризма», порождаемые им угрозы и допустимые методы борьбы с этим злом. Поэтому практически немедленно после выявления первых серьезных разногласий в данной сфере стала возрождаться конфронтационная картина мира.
Между тем практически сразу стало понятно, что имеются как минимум две проблемы. С одной стороны, количество игроков увеличилось: к «первому» миру, куда обычно причислялся только Запад, сегодня относят уже трех лидеров: Америку, Европу и Китай[3]. С другой стороны, Россия — экономически неконкурентоспособная, но амбициозная в военно-политическом смысле — не собирается уступать позиции, хотя и плохо понимает, как может управляться многополярный мир, продуцирующий массу новых рисков[4]. Поэтому, на мой взгляд, мир начала XXI века начал вновь «инстинктивно» стремиться к биполярности: одним полюсом по-прежнему выступают Соединенные Штаты и Европейский союз (в котором более проатлантическими оказываются его восточные члены), другим — Китай и примыкающая к нему Россия. Даже в относительно подчиненном статусе Москва готова кооперироваться с Пекином: элиты обеих стран разделяют многие ценности, полагают оптимальными схожие системы управления, не собираются навязывать друг другу некие «универсальные» подходы.
Все отмеченные обстоятельства привели к радикальному пересмотру если не внешнеполитических доктрин России, то как минимум их «идеологических» оснований и теоретических рамок, в которых принято вести обсуждение современных геополитических вызовов.
С конца 1980-х гг. и (в различных формах) до середины 2000-х гг. доминирующей парадигмой выступала доктрина, которую можно назвать «доктриной Большой Европы». Запущенная в жизнь еще М.Горбачевым с его мечтами «Европы от Лиссабона до Владивостока»[5], она была на словах поддержана многими, но не получила развития по целому ряду причин. Я не буду подробно останавливаться на их анализе, скажу лишь, что наиболее важной мне видится некая субъектная диспропорциональность такого союза: Россия не могла «вписаться» в «Большую Европу» по трем причинам. Во-первых, она по причинам собственной самооценки не готова была присоединиться к Европейскому союзу в качестве нового члена. Во-вторых, европейцы не готовы были разговаривать ни с Россией, ни с созданным ею Евразийским союзом на равных, как это предлагалось сторонниками идеи «Союза Европы». В-третьих, в составе «Большой Европы» имплицитно всегда присутствовали Соединенные Штаты, которые не только являлись составным элементом европейской цивилизации, но и десятилетиями доказывали свою полезность в качестве основного гаранта европейской безопасности. В этой ситуации не вызывает удивления то, что в Москве постепенно начали поиски альтернативной доктрины.
С середины 2000-х гг. в такую концепцию стала превращаться доктрина «Большой Евразии», предложенная и наиболее активно развивавшаяся группой авторов, сплотившихся вокруг С.Караганова и «Валдайского клуба». На начальном этапе основной целью этого «нового евразийства» было обоснование желательности российского «поворота на Восток», а точнее — тесного партнерства с Китаем. Тут стоит вспомнить шесть докладов «Валдайского клуба» под общим названием «К Великому океану». Постепенно задачи экономического развития восточных регионов России отходили на второй план, тогда как основное место занимали представления о необходимости сотрудничества с КНР для формирования противовеса США. Еще чуть позже начались поиски не только причин для политического союза, но и общей исторической идентичности (пока вершиной таковых стали рассуждения о том, что «и Китай, и Россия вышли из империи Чингисхана»[6], что, на мой непросвещенный взгляд, аналогично тому, как если бы поляки начали убеждать французов в исторической близости двух стран на основании того, что обе «цивилизовывались» Третьим Рейхом), которые явно не собираются прекращаться. Данная концепция, на мой взгляд, также уязвима — как потому, что пресловутая «Большая Евразия» не может исчерпываться только Россией и Китаем, так и потому, что основным допущением ее сторонников остается гипотеза о том, что Пекин и Москва будут играть в новой геополитической игре равные и равноправные роли.
Иначе говоря, первая из концепций имеет довольно прочный ценностно-культурный и исторический фундамент, но ей безусловно недостает геополитического и тем более организационного оформления; вторая же предполагает существенные сходства геополитических интересов игроков, но ни в малейшей степени не опирается на значимые культурно-исторические основы. Обе они по-своему «перекошены» в пространственном отношении: в первом случае «Большая Европа» гипертрофированно перекашивается на Восток, так как бóльшая часть России находится в Азии; во втором — «Большая Евразия» практически не имеет ничего от Европы, коль скоро Россия объявляется наследницей монголов, а Западная Европа — «малозначимой оконечностью» этой самой Евразии.
Кроме того, две парадигмы принципиально отличаются по своей территориально-географической направленности. Идея «Большой Европы» в той или иной мере тяготеет к Европе, цивилизации океанической, и предполагает границы на Атлантике и Тихом океане, в целом соответствуя представлениям о современной экономике, в которой бóльшая часть продукта создается в непосредственной близости от морских побережий, а международная торговля опирается на океанические перевозки[7]. Идея «Большой Евразии» делает акцент на «новое издание» макиндеровского «хартленда» и максимально подчеркивает значимость сухопутных путей сообщения, обещая формирование новой континентальной экономики вокруг основной связки «Москва — Пекин». Можно бесконечно спорить относительно привлекательности китайской стратегии «Один пояс, один путь», однако факт остается фактом: ориентировка на «евразийство» однозначно уводит Россию от морской геополитики к сухопутной, создавая ощущение осаждённой крепости, а не открытого к развитию пространства. Характерно, что именно эта идеология соответствует той реальности, в которой только те постсоветские страны, которые не имеют выхода к океану, сплотились вокруг России в Евразийский союз, в то время как обладающие таковым стремятся максимально дистанцироваться от интеграционного проекта Москвы.
Можно продолжать находить линии противопоставления двух постсоветских парадигм, но очевидно одно: обе они выстраивались и выстраиваются таким образом, как будто Соединенных Штатов — пока еще самой мощной в экономическом, военном и особенно технологическом отношении державы мира — попросту не существует. Они присутствуют в обеих доктринах скорее воображаемо: в первой как потенциальный союзник ввиду отношений с «малой Европой»; во второй — как очевидный противник, противостояние которому и сплачивает «Евразию». Именно поэтому, на мой взгляд, даже воображаемая перспектива вступления Соединенных Штатов в игру с Россией, нарисовавшаяся в сознании ряда экспертов после визита Дж.Болтона в Москву, вызывает непропорционально активную реакцию: ведь в случае, если «план Киссинджера наоборот» (раньше дружили с Китаем против СССР, теперь попробуем дружить с Россией против Китая) является чем-то большим, чем мифом, он, по сути, выходит за рамки обеих парадигм, в которых российская политическая элита видела окружающий мир на протяжении последних тридцати лет.
Однако, на мой взгляд, не нужно бояться новых подходов в мире, который с каждым днем меняется все больше. Сегодня ни теория «большой Европы», ни концепт «большой Евразии» не могут являться действенными платформами для позиционирования России в глобальной политике XXI века. Отношения с Европой испытывают и еще долго будут испытывать перенапряжение из-за конфликтов на всем западном фланге постсоветского пространства — прежде всего с Украиной, но, думается, и не только. Китай, и это уже становится ясно, не станет важнейшим экономическим партнером России, способным заменить ей западные инвестиции и технологии; кроме того, высока вероятность противостояния с ним на другом фланге постсоветского пространства, на этот раз южном. Иначе говоря, в меняющемся мире Москве нужны, с одной стороны, не один, а несколько союзников, а с другой — достаточно четкое понимание общей идентичности того союза, частью которого она способна стать.
Подобная ситуация требует новой «большой стратегии», которая объединяла бы в себе три основных элемента.
Во-первых, она должна исходить из потребностей экономического развития страны: ее индустриальной модернизации на основе современных технологий; постепенного преодоления нынешней зависимости от сырьевого экспорта; более пропорционального территориального развития (идея «поворота на Восток» совершенно правильна, но лишь в той мере, в какой она предполагает развитие тихоокеанского побережья России, а не пресмыкательство перед Китаем). Учитывая все это, сложно предположить, что Китай может стать оптимальным партнером: как ведущая индустриальная страна, он не заинтересован и не будет заинтересован в появлении конкурента в лице России. Поэтому экономические факторы будут требовать сближения с Европой и Соединенными Штатами.
Во-вторых, она должна основываться как на нашей исторической идентичности, так и на долгосрочной оценке культурной и цивилизационной близости России к основным геополитическим игрокам. В этом случае не стоит даже обосновывать, что Россия тяготеет к Европе, а не к Китаю: достаточно сравнить количество видов на жительство, полученных россиянами там и там; объемы контролируемых активов в обеих юрисдикциях; общее отношение к европейцам и к азиатам. Никакие всхлипывания по эпохе Орды в данном случае не могут заменить опыта истории последних столетий; даже если российские политики сегодня и говорят, что их не устраивает европейская повестка дня, то лишь оттого, что им чуждо отрицание традиционного суверенитета, в то время как никакой отличной от прежней (XIX или начала ХХ веков) европейской повестки они никогда не знали.
В-третьих, она должна учитывать новые линии глобального противостояния, сложившиеся в последние десятилетия. Напряженность между США и Китаем отражает нарастающие амбиции региона, который по отношению к развитому миру следовало бы называть не Востоком, а Югом, и амбиции эти будут только расти. Именно с глобального Юга на те же Европу и США нарастает миграционное давление, обусловливаемое неэффективностью политических и экономических систем отстающих стран. Глобализация конца ХХ века, этого нельзя не признать, породила масштабное неравенство, и оно вряд ли будет сокращаться по мере технологического прогресса. И это неравенство, опять-таки, разделяет не Запад и Восток, а скорее те же Север и Юг. Иначе говоря, сама квазисоветская идея «противостояния Западу» теряет свои содержание и смысл.
На мой взгляд, все эти обстоятельства на подсознательном уровне ощущаются и политической элитой нашей страны, и многими россиянами. Негативное отношение к Соединенным Штатам порождено прежде всего их даже не оппозиционностью России, а отстраненностью от нее: американские политики действуют так, как если бы Российской Федерации не существовало вовсе. Позитивное отношение к Китаю обусловлено скорее не стремлением к основанной на культурной и исторической близости дружбе с ним, а пониманием того, что он остался нашим единственным мощным союзником, какими не стоит разбрасываться. Ни тот, ни другой подход не является прочным основанием для внешнеполитических ориентиров на долгую перспективу.
России необходимо переосмыслить свое отношение к миру с учетом нескольких обстоятельств, отличающих реалии начала XXI века от реалий середины XX-го века. Во-первых, надо признать, что в новых условиях никакие военно-политические измерения силы не могут подменить экономический, технологический и креативный потенциал страны. Во-вторых, нельзя не видеть, что основная ось глобального противостояния меняет свое направление с «Запад – Восток» на «Север – Юг» со всеми вытекающими из этого последствиями. В-третьих, нужно исходить из того, что державой «первого ряда» Россия не является, собственного интеграционного центра она не создаст и вынуждена будет кооперироваться с более крупными странами, играя в новых союзах подчиненные по отношению к ним роли. Все это приводит к вполне определенным выводам.
Сегодня, в обстановке усиливающегося экономического и геополитического соперничества США и Китая занимать сторону Пекина — значит жестко позиционировать себя в качестве «антизападной» страны. России, исторически являющейся частью Европы и отказавшейся от обусловливавшей такое противопоставление в прошлом коммунистической идеологии, нет никакого смысла поступать таким образом. Солидаризоваться с Китаем в условиях растущего «разлома» между Севером и Югом, причисляя себя таким образом к «Югу», еще более иррационально, учитывая тот факт, что исторически Россия являлась крупнейшей колониальной империей, а вовсе не колонией или подмандатной территорией, к сообществу которых она ныне стремится присоединиться. Наконец, пресмыкаться перед Пекином в надежде на экономическую помощь и сотрудничество бессмысленно, так как они России не оказывались, не оказываются, и не будут оказываться, прежде всего потому, что внешнеэкономическая стратегия Китая свидетельствует: ему нужны вассалы, а не партнеры. Иначе говоря: ориентация на Юг, за которую на деле и выступают наши «евразийцы», бессмысленна в отличие от ориентации на Восток.
«Поворот на Восток» для России — естественный элемент ее пространственного развития и давно «перезревшая» задача. Однако развитие российских Восточной Сибири и Дальнего Востока, обусловленное, как правильно отмечают отечественные эксперты, стремлением освоения берегов «Великого океана», в полной мере лежит в русле евроцентричной, а не евразийской, стратегии. С одной стороны, оно предполагает создание открытой океанической экономики и повторение (о чем многие и много говорили) опыта не Срединной империи с ее сожженным флотом, а скорее Соединенных Штатов и Калифорнии как ее наиболее развитой территории. С другой стороны, не стоит забывать, что героическое продвижение русских на Восток как носителей европейской цивилизации привело их в Северную Калифорнию намного раньше, чем в пустыни Средней Азии. Этот восточный и морской векторы российской территориальной экспансии в свое время соединили два фланга европейской цивилизации, сделав знаменитый Форт-Росс знаковым пунктом на российско-испанской границе. На протяжении столетий мы могли наблюдать успешное освоение европейцами периферийных территорий, но ни разу не видели такого освоения со стороны стран Азии, если не считать его примером гуннское или монгольское нашествия. Поэтому, на мой взгляд, России следует исходить из того, что ее Восток – это не Сиань, а Северная Америка (если кому-то сложно в это поверить, можно в конце концов посмотреть на карту и повертеть глобус) и выстраивать свою идентичность не как «западную» или «восточную», а прежде всего как «северную».
Подобная стратегия, на мой взгляд, предполагает существенное смещение многих традиционных для российского самовосприятия акцентов. Прежде всего снимается вопрос о «соперничестве» с Соединенными Штатами: Россия и Америка выступают в новом контексте as two European offshoots, как две «окраины Европы»[8], по сути — как «младшие ветви» европейской цивилизации. Понимание того, что именно Европа — какими бы ни были ее геополитические позиции в настоящий момент — является историческим центром северной цивилизации, может стать фундаментальной основой преодоления бессмысленной российско-американской ревности/вражды. Восстанавливается понимание России как державы континентальной — но не в том смысле, что она пытается отстраниться от океанов, а, напротив, в том, что она, как и Америка, простирается от одного океана до другого и обладает соответствующими амбициями. Подобное осмысление места России формирует четкое понимание того, что она не относится к мировому Югу и ей не стоит во всемирном масштабе становиться рупором всех неудачников — от Венесуэлы до Сирии, и, как говорится, далее везде. Наконец, опыт стран европейской культуры может показать России, что в экономическом плане задачи развития состоят сегодня не столько в том, чтобы «слезть с сырьевой иглы» (США добывают нефти и газа уже больше, чем Россия), а в том, чтобы добавить к своей экономике дополнительное измерение.
В рамках такой стратегии масштабное примирение с Европой и Соединенными Штатами выступало бы важнейшей перспективной целью, достижение которой могло решить несколько насущных задач. Основной среди них является развитие наших тихоокеанских территорий. И тут нужно признать, что только западные страны (прежде всего США и Канада) имеют серьезный опыт освоения таких пространств в рамках рыночного хозяйства в условиях международного сотрудничества. Однако не менее значимо прекращение милитаристской истерии и сопутствующих ей непозволительных трат, серьезно подрывающих российскую экономику, а также последовательное преодоление конфликта вокруг Украины, который не только противопоставляет Россию Западу, но и прежде всего негативно сказывается на многочисленных украинцах и русских, оказавшихся в зоне конфликта. Итогом должна видеться не интеграция России во что-то уже существующее, а создание принципиально новой структуры, своего рода Северного Альянса, в котором наша страна заняла бы место одного из трех «indispensable partners» («незаменимых партнеров»).
Конфронтация между Соединенными Штатами и Китаем выглядит в этом контексте чрезвычайно своевременной и полезной, так как она может подтолкнуть Россию к геополитическому выбору. Сегодня Российская Федерация если не обладает международно-политическим весом, то имеет влияние на мировые процессы, непропорциональное ее экономическому, технологическому и человеческому потенциалу. «Размен» этого влияния на прочные позиции в новой геополитической системе было бы лучшим, чего в состоянии добиться страна до того, как очередная понижательная волна не сырьевых рынках ввергнет ее в глубокий хозяйственный кризис. В случае, если по тем или иным причинам Запад ощутит потребность в России как в союзнике — и не ситуативном, а постоянном — на мой взгляд, не существует ни одной причины не пойти ему навстречу.
В завершение я хотел бы повторить очень простую вещь: на протяжении последних нескольких столетий внешнеполитические стратегии Российской империи и Советского Союза строились исключительно на противопоставлении России либо Западу в целом (в основном в советское время), либо одной из частей Запада в надежде стравить ее с другой частью того же Запада. Идея всестороннего союза с Западом ради того, чтобы само это понятие исчезло за ненадобностью, никогда не ставилась в центр российских «больших стратегий». Похоже, время для этого приближается с пугающей неизбежностью. И будет печально, если оно придет и застанет российских интеллектуалов внешней политики за собиранием новых конструкций из тех же кубиков, какими баловались еще их деды. Потому что, как бы многим ни казалось обратное, современный мир переживает бурный процесс де-архаизации и вряд ли простит тех, кто всё ещё бежит вдогонку за позапрошлым веком.
______________________
1. см.: Luttwak, Edward. The Rise of China vs. The Logic of Strategy. Cambridge (Ma.), London: The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2012.
2. см.: Иноземцев, Владислав. “Очень своевременный противник” в: Россия в глобальной политике, том 3, №3, май – июнь 2005, сс. 38–53.
3. см.: Ханна, Параг. Второй мир, Москва: Центр исследований постиндустриального общества и Издательство «Европа», 2010, сс. 8–21.
4. см.: Иноземцев, Владислав. “Мечты о многополюсном мире” в: Независимая газета, 2008, 18 сентября, с. 10
5. см.: Ильин, Евгений. “Концепция «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока: проблемы и перспективы” в: Вестник МГИМО Университета, 2015, №1, сс. 84–92.
6. см.: Дискуссионный клуб «Валдай». Вперед к Великому Океану-6. Люди, история, идеология, образование: путь к себе, Москва, 2018, с. 24.
7. см.: Иноземцев, Владислав. “Утраченные ориентиры” в: СНОБ, 2014, № 11 (ноябрь), сс. 104–109.
8. см. подробнее: Иноземцев, Владислав. “Европейский «центр» и его «окраины»” // Россия в глобальной политике, том 4, №5, сентябрь – октябрь 2006, сс. 77–91.
РСМД. 08.11.2018