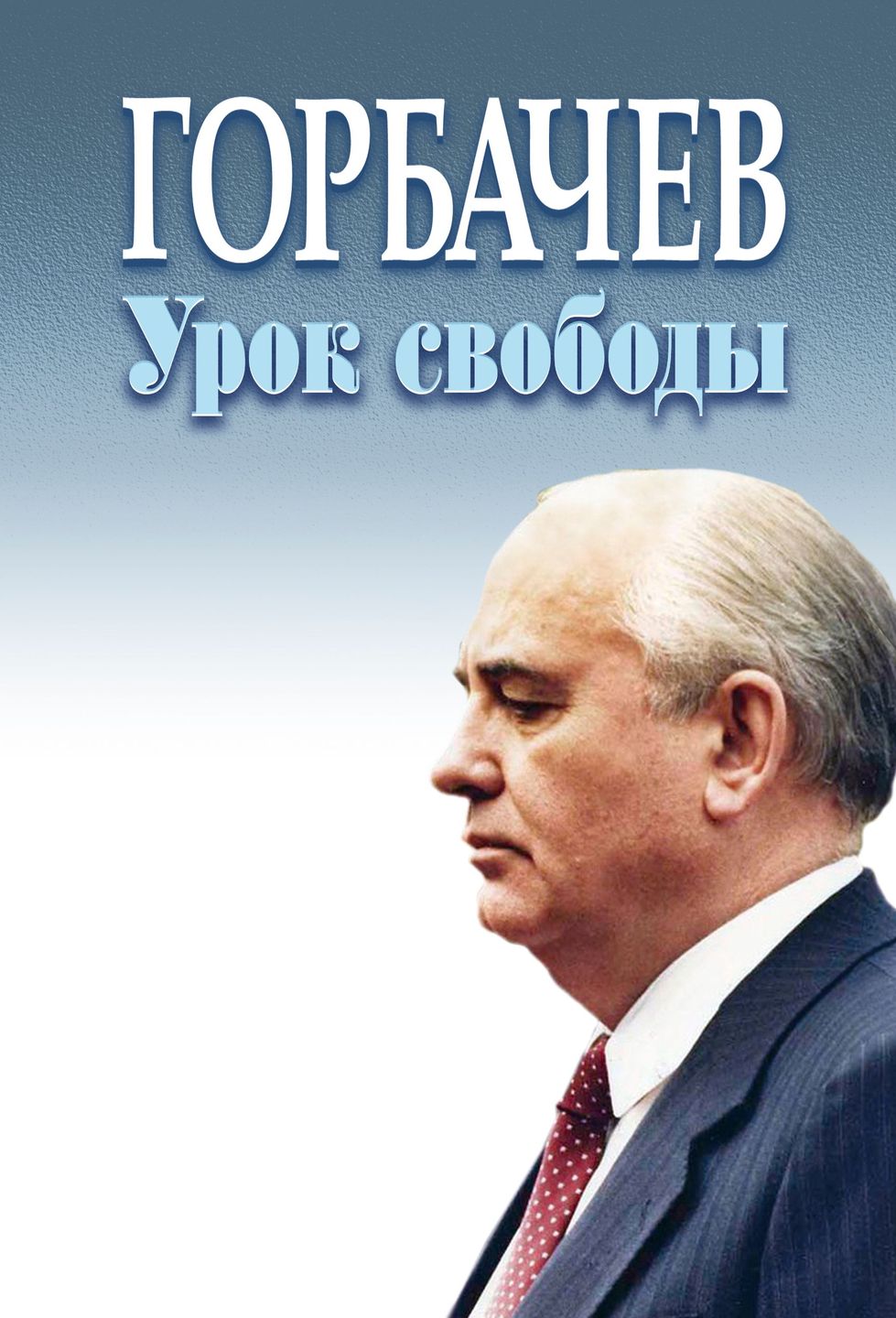Юбилей надежды
Михаил Сергеевич Горбачев - человек-легенда, навсегда вошедший в историю как преобразователь современной России и мира. Именно он как политик бросил вызов силам прошлого и сумел разорвать круг якобы исторически обреченных на неуспех реформ в своей стране. Именно он стремился гуманизировать общество, раскрыть его демократический потенциал. Именно он на основе нового мирового мышления проложил путь к системным изменениям в международных отношениях. Накануне 2 марта, дня 80-летия последнего генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР, лауреата Нобелевской премии мира, с М. Горбачевым встретился главный редактор журнала "Мир перемен" Р. Гринберг.
За свободу и справедливость
Р. Г.: Дорогой Михаил Сергеевич, позвольте в преддверии Вашего юбилея передать наилучшие пожелания, прежде всего, крепкого здоровья от читателей "Мира перемен". Они, также как и Вы, остро переживают состоявшиеся и предстоящие изломы в судьбах каждого из них, страны и мира. Нам, естественно, хочется вспомнить, что и как происходило, представить, что ждет в будущем. Конечно, мы не становимся моложе, но зато приобретаем опыт, "сын ошибок трудных", становимся мудрее, оценивая прошлое, и дальновиднее, заглядывая в завтрашний день.
М. Г.: Я не чувствовал возраста лет до 70. Уход Раисы был для меня неприемлемой, жуткой потерей. Она выглядела и крепче, и моложе, чем я. Но ее депрессия... она была не готова к таким переживаниям совершенно. Так вот, ты имей в виду, что разница в возрасте не может не накладывать отпечаток на нашу беседу.
Р. Г.: Это понятно, но любая из наших с Вами бесед - фиксация очередного периода - и политического, и человеческого времени. Для читателей напомню: в журнале "Мир перемен" Вы являетесь членом Международного совета.
М. Г.: Мне очень нравится таков название. В этом суть: если о нашем мире сказать обобщенно и кратко, одной фразой: мы живем в меняющемся мире, причем в быстро меняющемся.
Р. Г.: Как раз с этого хотелось бы начать. Весь мир меняется, иногда порывами, какими- то неожиданными толчками, и к тому же не обязательно в лучшую сторону...
М. Г.: А что ты придираешься к миру? У енго идут свои процессы, нравятся они нам или нет, но мы должны его понять, адаптироваться к нему. Мы в глобальном мире, но не чувствуем еще за происходящее должной ответственности, мы не адаптировались и не знаем, как в нем жить и как управлять им и собою. В этом беда.
Р. Г.: Помните, кто- то из американцев сказал, что мы все живем наземле в одной большой деревне, но только дома находятся в разных веках. Здесь есть мощный конфликтный потенциал, что мы сейчас и видим по возмущению в арабском мире.
М. Г.: Меня вчера подробно расспрашивали как раз об этом на пресс- конференции в ИТАР-ТАСС. Мне кажется, что здесь на макро уровне как раз все ясно. На микроуровне - была эпоха, когда все эти страны получали независимость, выходили из колониальных систем и становились государствами. Какими государствами? У кого как получалось. Теперь они хотят быть свободными. Люди более грамотные стали, получили опыт жизни в самостоятельной стране. Более того, это нефтяной пояс, в нем есть что делить. Каддафи - "интересный" человек. Интересный значит странный, как мы говорим. Дал команду стрелять. Ты знаешь, о ком я подумал? О Николаэ Чаушеску. Он дал команду стрелять, и кончилось тем, что немедленно провели суд, тут же его расстреляли и бросили, как скот подстреленный на солому. Вот этого понять я не могу никак.
Р. Г.: Кстати, раз Вы об этом вспомнили, - это правда или нет, что они тогда спрашивали у Вас разрешения на казнь.
М. Г.: Это ерунда, конечно. Я вспомнил вот почему. Он однажды мне говорит: "Что, с социализмом плохо?" Я говорю: "Да". Мы вот потому и начали свою реформу. Нам нужно обновление, как минимум. Я не знаю, как это обновление заложит потом предпосылки для будущего, и какие - это же процесс. И потом, наша страна - огромный кусок мира, 1/6 часть суши. Все религии тут. Не все и теперь знают: мы говорили на 225 языках и наречиях. Поэтому и на Ближнем Востоке, что- то подобное нынешнему должно было рано или поздно случиться. Люди свободно хотят жить. Они почувствовали новые возможности и силы.
Р. Г.: А не кажется Вам, что это похоже на нашу ситуацию?
М. Г.: Нет! Да и не люблю я эти аналогии ваши, политологические…
Р. Г.: Речь не о модных "аллюзиях", а о философском прочтении ситуации, Михаил Сергеевич. В 17-м году Россия начала борьбу засправедливость. Без свободы, но за справедливость. И получили ее в 17-м году - какую- никакую. Но она была 70 лет без свободы - и вот Горбачев хотел их соединить.
М. Г.: Она была без свободы, поэтому присутствовал лозунг "Свободу угнетенным нациям!". Так что ты к Ленину не придирайся. Он правильно лозунги выбирал. Он только наделал глупости в период военного коммунизма. Мне очень жаль, что приходится сказать так по отношению к Ленину.
Р. Г.: Ваша любовь к Ленину известна.
М. Г.: Даже, признаться, обожествление какое- то. Я все то, что он писал, все перечитал, до сих пор в памяти все- таки многое остается. Я был поражен, как он должен был маневрировать, - и он маневрировал как никто. Например, ему докладывают, что в Учредительном собрании многим не нравится программа большевиков для крестьян. А что такое ?для крестьян?? Это же 80% народа…
Р. Г.: И он тогда что?
М. Г.: И он сказал: "А что им предлагают?". Оказывается программу эсэров. И не зря же эсэры получили большинство, да какое - огромное большинство на выборах. Потому что крестьяне голосовали, народ тогда из них и состоял, и от этого некуда было деться, - это сейчас их можно просто не замечать. И он сходу говорит: "Значит, берем эту программу!" Гибкость поразительная. Он даже не затруднялся. Или вот онвыступает и говорит - до революции, но накануне революции: "Пролетариат завоюет власть, используя демократию, и будет управлять страной, используя демократию". Приходит 17-й год со всеми своими угрозами и катастрофами. И Ленин, у него же такой ум - живой, мощный и решительный, иногда ему тормозов не хватало, это ясно, - он сел писать на пеньке, было принято решение, чтобы он скрылся в Финском заливе. Там и написал "Государство и революция". И что же главное в результате? Пришли, причем со ссылкой опять же на товарища Маркса, к тому, что диктатура - и есть высшая форма демократии. Потрясающе!
Р. Г.: Мощная диалектика. Потом вышло, что нужен военный коммунизм, а потом и товарно- денежные отношения тоже оказывается хорошо.
Сейчас легко все объяснять: это ради сохранения личной власти? А на самом деле - не ради ли особой миссии, все- таки он был миссионер? Как Вы считаете?
М. Г.: Он понимал, что власть ему нужна, но все- таки взгляды у него глобальные были. Всемирная революция так и не сходила с повестки дня.
Р. Г.: Но у Вас ведь такая же история…
М. Г.: Моя история еще не закончилась! Хочет в историю меня отправить.
Р. Г.: Вас скорее сейчас оттуда изъять хотят, выкинуть. Это просто спор с антигорбачевцами. Они говорят: "Он долго тянул с Аф- ганистаном, долго тянул с тем, с другим, не успел, не сумел...". Долго - это сколько? А за 5 лет все сделал! И мы после этого 20 лет не можем решить, какая нам нужна модернизация и зачем? Да это же - с ума сойти! Но все- таки интересно, Вы тогда думали, что выпускаете джинна из бутылки, давая людям свободу? Или Вы твердо были уверены, что справитесь с последствиями?
М. Г.: Я был уверен, может быть, иногда слишком.
В борьбе за перестройку
Р. Г.: Вы их убаюкивали, своих соратников, - или нет? Правда, Вы со мной не соглашались, когда я говорил, что Вы их убаюкивали.
М. Г.: Нет ни одного документа, который мы приняли в разногласии, порядок же был в Политбюро - принцип единогласия. Обсуждали, и иногда дискуссии длились по 9 часов! По Нине Андреевой была двое суток дискуссия.
Р. Г.: Но как Вам удавалось бороться с двумя даже с тремя разнонаправленными группами?
М. Г.: При чем тут Нина Андреева?
Р. Г.: Это же линия была… Верно ли, что Вы постоянно должны были лавировать между реваншистами, т.е. ортодоксальными коммунистами, и опъяневшими от свободы радикальными либералами?
М. Г.: Вот такое вот сознание (стучит) - черно- белое...
Р. Г.: Черно- белые же Вас победили практически? Они друг друганенавидели, но им надо было избавиться от Горбачева.
М. Г.: Спорим, что они не победили? Р. Г.: Формально победили.
М. Г.: Не победили. Если бы победили, совсем другое дело было бы. Хотя, может быть, и нет. Что значит победили?
Р. Г.: Нетерпение русское победило, я считаю. Команда Ельцина - это русское нетерпение, русские западники.
М. Г.: Да нет, если уж рассматривать и выстраивать цепочку этих взаимозависимостей, как они дальше навязывали какое- то направление, то: первое - не было свободных выборов. Тут все начинается. Провели свободные выборы. Пришла огромная масса новых людей. Кстати, сейчас я не знаю, когда еще придет столько людей, готовых участвовать в преобразованиях.
Р. Г.: Почему же надо было опьянеть от свободы?
М. Г.: Ты подожди, не перебивай. Выборы идут. Клянут, задают вопросы, Горбачев какую-то систему закладывает. А сколько сил стоило, чтобы охватить избирательной системой основные слои - молодежь, наука, интеллигенция, военные, православные, кооператоры - все получили свои возможности. И даже мы свою сотню готовили - партийная сотня. Голосование было потрясающим, оно, конечно, показало, что действительно уже сработала и гласность, и все то, что перед выборами происходило. Люди уже знали, что их за правдивое голосование не накажут, не будут преследовать и т.д.
Утром собрались, на второй день после выборов. Идет бурная дискуссия. Я чуть- чуть задержался, пришел позже и никак не могу усадить членов Политбюро. Говорю: "Давайте заканчивать". Что вы спорите, это же большая победа, самая первая! Мы с вами хотели получить поддержку на конференции - получили. Она дала нам курс на политические реформы. Политические реформы, первый важнейший шаг - свободные выборы. Это огромная победа! Свободное голосование. Люди выбрали, и среди избранных оказалось 84% коммунистов. Это же недопустимо по демократическим меркам, но это результат свободного демократического волеизъявления всех избирателей.
Р. Г.: Может, их не за то выбирали, что они коммунисты?
М. Г.: Они знали дело, знали людей. И тут я вдруг слышу: "Какие это коммунисты?".
Р. Г.: Вот это да…
М. Г.: Я так и сказал: "Вот в чем дело!". Мы же при наших советских выборах, когда расписывали всех, сколько доярок, сколько рабочих, больше 50% коммунистов не было. А тут 84%! Но - деталь важнейшая: 35 секретарей обкомов не прошли. При этом в их распоряжении все возможности были. Партийно- административные, если по-нынешнему. С Юрием Соловьевым я дважды беседовал, и он сказал, что все нормально.
Р. Г.: Соловьев это был кто?
М. Г.: Ленинградский, кандидат в члены Политбюро. Пролетел. Вот тут и началось. Борис Николаевич уже вернулся. Контора с небес, видимо, наблюдала, как надо заложить перспективу. И знаете, почему я его защищал? Только по убеждению, ведь сам же и начал. Чтобы не нанести удар по зародившейся демократии, чтобы не терять доверия на этой дешевке - я не больно- то высокого мнения был о нем.
Р. Г.: Все знают: его растерзали бы тогда, если бы не Вы.
М. Г.: Да. Его не избрали в Верховный Совет. Тогда помнишь, бывший прокурор Казанник отдал ему свое место? По какому закону такие выборы? Но я же поддержал.
Когда в 1985 г. зашла речь перевести Ельцина в Москву, Николай Иванович Рыжков возражал: "Вы с ним натерпитесь". Ну, я и приостановил процесс. А Егор Кузьмич говорит: "Разрешите мне поехать в Свердловск, разобраться".
Этого как Господь Бог толкал. Это он потом говорил: "Борис, ты не прав!". "Ну ладно, - говорю,- поезжай". Возвращается: "Я был там, с теми поговорил, с этими. Наш человек, Михаил Сергеевич, что надо", - цитата прямо. Вот мы и взяли Ельцина заведующим отделом, потом уже скоро сделали секретарем ЦК, а в январе следующего года уже и секретарем московского горкома.
И начался процесс, который показал нам, всем показал, что КПСС не принимает демократию.
Р. Г.: Как не принимает?
М. Г.: Она не хочет выборов, а мы же ей навязываем выбирать секретарей партийных организаций тайным голосованием... Раньше было: тут Горбачев, там секретарь обкома, секретарь райкома, кормушка определена ...
И вот началось беспокойство в партии. На собраниях стали секретарей менять тайным голосованием, директоров, ты знаешь. Это вообще не нужно было. Директора должны назначаться, как положено, но мы же решили всех поставить под демократию. Не выдержали... Поэтому можно говорить, не только КПСС, но и наша номенклатура, хозяйственная система не выдержали испытания демократией. Это же оказался, если разобраться, вопрос вопросов. И номенклатура после этого начала организационно формироваться - партийная, хозяйственная, государственная - обнаружились общие интересы: всетаки не допустить, что кто- то тут из "быдла" придет к управлению. У нас же коммунисты бывали еще похуже нынешних радикал- либералов, так сказать. Хотя партия вообще была хорошая -много там народу простого, передового, разумного.
Р. Г.: Хороших людей было много в партии. И как Вы их отдали Зюганову?
М. Г.: Так, дальше, - первый узел завязался. Я уже сказал, что вот через эти механизмы и эти все процессы нарастали. И все труднее себя чувствовала родная партия. Она из инициатора перестройки превратилась в главный тормоз. Я в эти дни интервью много давал, сказал, что пришло в голову - "стала плотиной на пути".
Поехали после XXVII съезда по регионам беседовать. До этого тоже ездили - после апрельского пленума, после мартовско- апрельского - но тут все изменилось: люди, ну просто что- то с ними происходило. Раньше везде и улицы заполняли, где бы я ни оказался, и встречали. И отовсюду приезжали, впечатления богатейшие были. А вот после XXVII съезда, т.е. год прошел, и уже разочарование у народа: "У нас ничего не меняется". Речь уже шла о том, что нужен какой- то механизм, чтобы людей убрать, которые тормозили. И пошло нарастать... Я приехал в Самару. Действительно, как машина времени меня вернула назад. Ничего не изменилось! Я пытаюсь разговаривать с рабочими, которые меня окружали, просто в городе с горожанами беседовать - не дают, - присутствующий секретарь горкома и другие. Я даже одному сказал: "Слушайте, я не с Вами разговариваю. Вы послушайте, что говорят". У него шея красная, такая мощная, надулась. Сейчас бы этим реформаторам...
Присылает письмо земляк из Ставрополья. Я, говорит, после съезда пришел к нашему руководителю и говорю: "Дайте землю, участок, подряд". Ему отвечают: "А ты чего пришел? Какое твое дело? Это тебя не касается. Иди, работай!". Он прислал мне письмо. Василий - я это в мемуарах написал, можешь прочитать - секретарь комсомольской организации философского факультета МГУ. Мы знали друг друга, учились вместе. Он сейчас зав. кафедрой, профессор в Горьком. А тогда... Пишет письмо: "Михаил, чтоб ты знал - у нас ничего не поменялось!". Наоборот, чтобы тащить и не пущать, предпринимались совсем другие меры. Номенклатура обозлилась.
И пошло-поехало. И наверху начались расколы. И появилась межрегиональная группа. Я ее, конечно, приветствовал, как то, что должно было появиться в результате развития демократии, как оппозиционное крыло, тем более что там в основном хорошие люди были. Под руководством и при влиянии Сахарова они были то, что надо. Как его не стало, ее возглавил Борис. Ну а этот - бульдозер. Им и нужен был бульдозер: легче и понятнее. Они понимали, что он им нужен, и он понимал, что они это знают, и они ему тоже нужны. Ему нужна была точка опоры. Вот эти два процесса столкнулись, и со временем образовалась проблема.
90-й год, когда меня президентом избрали, в Конституции 6-й пункт - о главенстве партии - убрали. По сути, расходились, и не было ни одного места, где все "достигали консенсуса", шли подряд секретариаты, верховные советы, где вопрос ставился о Горбачеве, о генсеке. Сначала предлагали передать права президента, взять для этого Павлова, дескать, права не используются, а надо их использовать. "Твердой руки" не было, это не нравилось. Стоило бы мне только сказать: "Да, давайте введем чрезвычайное положение", -ну и все, вернулись бы к прежнему.
И мои друзья начали тоже сомневаться: "Нина Андреева -это раскол партии". Кстати, Егор вместе со своим окружением подготовили всю эту ситуацию. Он потом зашел ко мне и говорит: "Давайте соберем комиссию и проверим это все". Я говорю: "Знаешь, Егор, если мы сейчас начнем в Политбюро разбираться, кто кого и что, все - это конец".
Р. Г.: С одной стороны Егор, а с другой стороны Яковлев?
М. Г.: Да, Яковлев - с другой, Шеварднадзе. Посреди - как в стихах у Волошина - Виталий Иванович. Так он и остался. Сейчас, говорят, книжки пописывает.
Р. Г.: Виталий Иванович - это Воротников. Он- то был на чьей стороне - на лигачевской, наверное?
М. Г.: Туда гнул, я думаю, больше.
Между экономикой и политикой
М. Г.: А тут встали вопросы финансовые. Слюньков - секретарь по экономике - подготовил доклад. Говорит: "Надо немедленно что-то решать, ибо финансы опрокинут всю экономику. Последствия будут катастрофические", - он говорил прямо, беспокойно очень, с напором. Николай Иванович Рыжков решительно выступил против на Политбюро.
Р. Г.: Против такого тревожного подхода?
М. Г.: Да, против доклада. А я защитил Николая Ивановича, сгладил что- то. Это все уже мои тут ошибки. И вот это все нарастало. Сажи Умалатова вдруг появляется. Откуда? Герой! Это продукт воспитания и подготовки.
Р. Г.: Лигачева?
М. Г.: Нет. Но тоже характерно: моего друга по университету - Толи Лукьянова. Захотелось ему курировать группу "Союз". Ну, давай теперь, курируй. И курировал. Председателем же Верховного Совета был потом.
Р. Г.: Он производил впечатление честного человека…
М. Г.: Вроде бы. Но это продукт. Он же 25 лет в аппарате Президиума работал, аппаратчик с головы до ног, и жизнь не прошел, нигде не хлебнул ничего. Он любил стихи, сам писал. Вообще парень интересный... Он думал, что дело идет к тому, что власть будет делиться. Я вот сейчас скажу. Сидим мы на съезде народных депутатов, я внес предложение провести референдум. Вопрос - всенародный.
Р. Г.: Референдум о чем?
М. Г.: О Союзе.
Р. Г.: А, мартовский тот, знаменитый.
М. Г.: Лукьянов дергался, не хотел, я это вижу. Идем дальше, обсуждаем. Я говорю: "Ты почему не ставишь мое предложение на голосование?". Заставил просто. Рядом Борис. Голосует, так сказать, - одел наушники, а я рядом сижу: "Давай- давай, голосуй". Я кнопку нажал, а он как стесняется, ну прямо никак не хочет, но потом тоже кнопку надавил -"за" референдум.
Р. Г.: Почему же он- то был тогда против?
М. Г.: Да потому что он знал, что за Союз все проголосуют, и все, это его будущему препятствие. Значит, у него в голове уже тогда завелись какие- то тараканчики. Власть- то он любил, - мы это увидели. Результаты голосования объявляют, ну, известно, - провести референдум. Он берет эти наушники - и об стол.
Р. Г.: Борис?
М. Г.: Борис. А в 91-м году, до путча еще, перед референдумом, 19 февраля он выступает и говорит: "Не могу не сказать, с президен- том не получается. Я за то, чтобы другой человек был президентом". Говорю: "Борис…". Может, и ты там был и его поддерживал?
Р. Г.: Никогда в жизни.
М. Г.: Там много вашего брата было.
Р. Г.: Это правда. Даже в моем суперлиберальном институте подавляющее большинство философов и экономистов безоговорочно поддерживали Ельцина в его борьбе с Горбачевым. Это уж потом Борис Николаевич для них исчадием ада стал. Причем те, кто вел его к власти, сейчас, как правило, никак не хотят признаваться в этом. Кто голосовал за Ельцина? Сейчас никого не найдешь.
М. Г.: Стыдно, стыдно!
Р. Г.: Это же самые честные у нас были выборы. Самые честные затысячу лет! Что называется - ни "до", ни "после". У меня же личный конкретный пример есть. Я был среди руководителей предвыборной кампании Богомолова. Мы против Брячихина - видного партноменклатурщика. Я тогда понял, что политика - очень трудная работа, потому что легко становится аморальной. Я тогда пошел на то, что заказал листовку, где Ельцин жмет руку Богомолову, хотя всегда был против Ельцина. Но победа для меня оказалась важнее морали. И мы выиграли в первом туре. Знаете, как? 50,24%! Насколько честные порядки были - невероятно. Я в 4 утра приезжаю, и мне торжественно выдают удостоверение победителя, как в кино. Лица членов комиссии, конечно, опущенные... Но ведь они честно все считали. Им достаточно было всего 20 бюллетеней дополнительных... и все. Меньше любого статистического допуска. Вот что значило - настоящие советские люди.
М. Г.: Все время нарастала эта борьба. Она еще обострялась и тем, что использовали ухудшение настроений в народе. Поскольку с осени 90-го года у нас резко обострился дефицит, начались очереди и борьба в очередях за сыр и ботинки.
Р. Г.: Но тут начались бешеные деньги уже появились: из безналичных в наличные стали переводить.
М. Г.: Ну, это вы, ученые, увидели самую главную опасность в безналичных. Давай им кооперативы. Ученые удивительные вообще. Все ученые были за то, чтобы немедленно цены повышать. Помнишь? Потом первый Арбатов возразил, и все - ни в коем случае. А Николай (Рыжков. - Прим. ред.) завелся. И еще за 6 месяцев до того, как мы решили это делать, он официально заявил: "Мы цены поднимем". Два годовых товарооборота тем временем раскупили. Все раскупали.
Р. Г.: У либеральных экономистов был самый ужасный тогда подход: с одной стороны, давай рынок, а с другой - цены не повышаем. Ну, все же понятно...
М. Г.: Сначала настаивали: цены повышаем.
Р. Г.: Ну, это не все… Я был против.
М. Г.: 150 поездов вокруг Москвы стояли загруженные. Больше того, я же на 11 млрд долл. договорился на кредит для покупки и продовольствия, и всего, и товар пошел потом. А до сих пор врут: ввели рыночные цены - спасли народ от голода. Что же на самом деле? И продукты были, а народ дурной оказался - вроде поверили Ельцину. В общем, ситуация накалилась до того, что на одном из заседаний пленумовских - сразу после голосования за референдум - я почув- ствовал, что- то там подготовлено: сибиряки, Лигачев ...
Р. Г.: Что подготовлено?
М. Г.: Выступления на пленуме. Несли все по- черному. Я слушал-слушал, а потом думаю: "Что же я как тряпка буду сидеть?". Встал и сказал: "Ну, ладно, все. Я вижу, вы подготовились хорошо к этому пленуму, поэтому я подаю в отставку, а вы как хотите, так и делайте". И ушел.
Р. Г.: Тишина в студии.
М. Г.: 3 часа они заседали в Политбюро и приняли решение просить Горбачева взять свое слово назад. Надо было идти. Уже тогда Вольский собрал почти 100 человек, они в партию Горбачева записались. Ты был на этом пленуме?
Р. Г.: Нет, я же беспартийный.
М. Г.: А- а, оно и чувствуется.
Р. Г.: Но я был за Вас. Если бы Горбачев мне тогда сказал вступить в партию, я тут же вступил бы. Ведь уже шла эта весна 91-го года, в жуткой борьбе.
М. Г.: Потом были апрельская сессия, июньский Верховный Совет. На закрытом заседании три министра силовых выступали, что все, созрела угроза безопасности, страна на краю гибели и т.д. Но в это же время готовилась антикризисная программа. Ее поддержали все республики, причем она начала готовиться как программа Кабинета министров, но все умные люди высказались за нашу поддержку. Самое удивительное, что прибалты говорят: "И мы будем выполнять эту программу. Подписывать не будем, но участвовать и выполнять будем". В июле месяце пленум проводим, обсуждаем программу, какой она должна быть, назначаем на ноябрь собрать внеочередной съезд партии, чтобы, так сказать, уже реформировать ее. Она же к тому времени стала колхозом "8-е марта", все в ней, какие ни пожелаешь, были течения: и реакционеры, и ультра, и "нормальные". Наконец, мы к августу уже подготовили союзный договор. Подписывать его назначили на 20-е. То есть мы тяжело, но перелезали через это жуткое время. После чего у меня наконец появилась уверенность. Если у меня не было бы этой уверенности и созревшей готовности идти на риск, я не взял бы это на себя, да вообще не дошел бы до этого уровня решимости. А тут я увидел еще, что в открытой политике я не дал им нигде выиграть - ни на пленумах, ни на съездах, ни на Верховном Совете. Хотя из зала частенько кричали: "Есть предложение: отстранить Горбачева от ведения съезда".
И я поехал в отпуск. На неделю, потому что был измотан как никогда. Теперь считаю, не надо было ехать. Ну, еще десять дней, умер бы я, что ли? Нет, поехал. И тут, видя, что ничего по-другому не получится, Крючков говорит: "Сегодня рано выступать, послезавтра поздно - по Ленину, - выступаем завтра". Вот так они и пошли на это.
Видишь, как сплеталось номенклатурное недовольство, недовольство генералов и офицеров, КПСС с Ельциным. После путча Ельцин воспользовался этим, ходил на заседания, обсуждал что- то. Когда выходил, я ему предлагал: "Борис Николаевич, скажи телевидению о нашей работе и чего мы достигли". Он говорил: "Союз будет". Абсолютно аморальный тип и авантюрист. И предатель. Он понимал, что, если будет Горбачев, ему этой вольницы не сохранить. Чтобы избавиться от Горбачева, ему оставался только один путь - Союз пустить под нож.
Р. Г.: Я вспоминаю, как точно тогда написала "Нью- Йорк таймс": "Они не могли вырвать из- под него кресло, им пришлось вырвать всю страну".
Счастливый реформатор
Р. Г.: Чем Вы больше всего довольны в своей политической жизнии о чем Вы больше всего жалеете?
М. Г.: Я когда- то написал статью "Реформаторов счастливых не бывает". Потом я подумал и начал оправдываться перед всеми, сказал, что, конечно, я заблуждаюсь - подняться на такую высоту, получить такой пост, такое доверие - это большое счастье. Я старался его реа- лизовать.
Р. Г.: О чем Вы больше всего жалеете?
М. Г.: Я жалею, что не удалось начатое до конца довести. Мы довели до точки, когда возврата уже не будет, что бы ни происходило. Дальнейшее, совсем новое, уже надо искать. По демократическому транзиту будут люди идти, но надо идти иначе, а не так, как мы сейчас идем.
Р. Г.: Теперь вернемся к политической философии. Наш мир становится все менее спокойным. Вас упрекают в том, что до Вас жить было спокойней. Чем опасно равновесие страха? Ведь говорят: вот раньше- де был порядок.
М. Г.: Да мало чего говорят, что всех слушать- то?
Р. Г.: Но ведь это многие говорят, даже интеллигентные люди. Вот Америка была, у нее свой лагерь, у России свой лагерь. Там Франция иногда бастовала, у нас - Румыния.
М. Г.: Знаешь, когда говорят люди несведущие, не изучающие процесс и тем более не участвующие в нем, - это понятно, потому что мир сложный. Но, как говорят, история не без альтернатив - всегда есть альтернатива. Они всегда были, и в самой трудной ситуации всегда их можно найти. Вообще говоря, я не знаю, чем бы кончился застой. У меня такое впечатление, что дело как раз могло дойти и до гражданской войны, и до всего, чего хочешь. Почему я такой осторожный был и последовательно избегал применения силы. Хотя и пришлось, но не я создавал строй такой и режим, а при мне были только отдельные, вынужденные акции. Нашу страну, если сбить с толку, она далеко пойдет, только я тебе скажу, такая гражданская война, гражданский конфликт, гражданский раскол страны в то время - это никакого сравнения не было бы с гражданской войной после революции 17-го. Я не знаю, чем кончилось бы для нас - и для мира. У нас же сколько было оружия, и какого!
Р. Г.: Когда мне говорят, что любой человек, который пришел бы к власти после Черненко, должен был начать эти реформы, я спрашиваю: "С какой стати? Почему любой?". Горбачев еще 25 лет был бы генсеком, и макаронов хватило бы на всех. Михаил Сергеевич, Вы все- таки интеллигент во власти. Это редко бывает. Почему в России так печальна судьба середины? Неспособность договариваться. Зачем бросаться в крайности? Почему это? Откуда исторически? Смотрел недавно передачу: Проханов против Ерофеева. Они готовы убить друг друга. Ненависть патологическая. Два писателя. Позор!
М. Г.: Я был сам очень неприятно удивлен.
Р. Г.: Но ведь это приличные писатели, как ни странно, - и тот, и другой. Две линии - западники и славянофилы. Даже базового дважды два четыре между ними нет, я уже не говорю дважды три. Мне хочется у Вас спросить: как Вы думаете, почему так? Главное - ведь это продолжается.
М. Г.: Тут никуда не уйти. Нельзя все на обстоятельства списывать, на историческое формирование нашего государства и нашего народа, оно связано было все время и с завоеванием, и с защитой. Прямо скажем, это наложило отпечаток. Но все к этому нельзя свести, значит, нам не удалось создать такой режим, такую систему общественных отношений, которые бы давали...
Р. Г.: Простор и культуру для дискуссии. Почему у нас под компромиссом понимают временное отступление? Я отступил, но потом накопил сил и пытаюсь вернуть, разрывая соглашение. А ведь под истинным компромиссом понимают другое: ты что- то отдал, чтобы что- то получить, но навсегда отдал.
М. Г.: Самое- то главное, что люди внизу, в кабинете, на улице, где-то там все- таки между собой договариваются, а вот когда выходят на политические просторы... Я думаю все- таки, что мы сейчас близки к тому, чтобы создать какую- то новую систему общественных отношений, политических институтов; худо или бедно, но мы пробираемся по демократическому пути, хотя есть очень большое искушение - опереться опять на авторитаризм.
Р. Г.: Кто- то хорошо написал: "Жить, как Абрамович, а управлять, как Сталин", - вот мечта начальства.
М. Г.: Все- таки в наших делах больше след истории.
Р. Г.: А политическая состязательность, Михаил Сергеевич, что, шансы какие- то есть? Смотреть - грустно.
М. Г.: В этом отношении у меня пример - Украина. Иногда они там дерутся, пихаются, толкаются, но договариваются.
Р. Г.: Их президент теперешний, конечно, стремится, чтобы так, как у нас было, все в порядке, тихо.
М. Г.: Надо их подхваливать, что они все-таки договариваются. Представьте себе мое положение: мать - украинка, жена - украинка. 100%-ная украинка. Хотя она узнала об этом только когда мы из Фороса вернулись, я тогда решился и затребовал дела деда ее и своего деда. И сделали копию. У меня там так: по матери - дед Гопкало, бабушка - Литовченко. По линии отца все из Воронежа. На границе все с Украиной, тоже - хохлы. Так неужели мы дойдем до того, россы и малороссы - мы же один народ. Неужели будем воевать?
Р. Г.: Вы верите в демократический социализм по- прежнему?
М. Г.: Да. Я бы точнее все- таки назвал его социал- демократическим строем.
Р. Г.: Оппозиция победила только что в Гамбурге. Ангелу Меркель сильно подвели. Там у нее самое большое поражение.
М. Г.: Она скисла прямо.
Р. Г.: Михаил Сергеевич, Вы на Западе были бы центрист, социал-демократ, левый или правый?
М. Г.: Я не собираюсь на Запад, никогда не собирался, даже твое "если" я не принимаю. У меня на днях спросили, почему уезжаюттуда. Я говорю, слушайте, уезжают - это плохо. Мы должны разбираться, почему уезжают - и сами уезжают, и деньги увозят, и детей, и т.д. Но я могу сказать всем: не надо ехать туда. Очень тяжело, особенно с нашим характером, в отрыве от этой земли. Вчера я специально взял с собой на пресс- конференцию, посадил рядом в президиум Ксению - старшую внучку. Она ничего не говорила, ей не задавали вопросов, но она сидела. Потом ее спрашивают, когда все разошлись: "А Вы где живете?", она говорит: "В России".
Р. Г.: Сейчас только все и говорят, что Горбачев настолько Россию не любит, что даже день рождения празднует в Англии.
М. Г.: Можно было бы, конечно, дать опровержение. Но ты же знаешь, как это обычно делается. "Его обвинили в том, что он в бане украл шайку, а он отвечал, что уже целый год не был в бане".
Новое мировое мышление
Р. Г.: Михаил Сергеевич, Вы, лауреат Нобелевской премии мира, а наш журнал международный. Так что было бы неверно обойти вниманием острые события в мире. Сегодня это, прежде всего, арабский Восток. Мы уже вскользь упомянули о нем, но, естественно, ситуация требует более развернутой и углубленной оценки.
М. Г.: Я об этом только что написал статью, вот ее основные тезисы. Действительно, в этом регионе начался процесс перемен, который далек от своего завершения. Но уже ясно, что пути назад нет и разворачивающиеся события будут иметь далеко идущие последствия для каждой из арабских стран, где вспыхнули народные волнения, для мусульманского мира. Это момент всемирно- исторического значения.
В многочисленных комментариях, с которыми выступают политики и мировые СМИ, немало тревожных нот. Едва ли не основным мотивом стали опасения, что народное движение приведет к хаосу, а затем к фундаменталистской реакции и конфронтации между исламским миром и мировым сообществом. В основе этих опасений - недоверие к народам арабских стран.
Но народ сказал свое слово. Сначала в Тунисе, а теперь в Египте и Ливии люди заявили, что не хотят жить в условиях авторитарного правления, что их не устраивают режимы, удерживающие власть на протяжении нескольких десятилетий. Однако в конечном счете голос народа будет решающим. И арабская элита, и страны-соседи, и мировые державы должны это понять и учесть в своих политических расчетах.
В "уравнении", которое придется решать в Египте и в других странах арабского Востока, немало неизвестных. Труднее всего прогнозировать роль исламского фактора. Какое место занимает он в народном движении? Каким предстанет ислам по мере развертывания дальнейших событий? В Египте представители исламистских движений ведут себя пока довольно сдержанно. А вот за пределами страны слышны безответственные, подстрекательские высказывания. Тем не менее я уверен, что было бы ошибкой видеть в исламе деструктивную силу.
Сейчас от всех, кто причастен к событиям, требуется высокая степень ответственности и взвешенности в суждениях и действиях. Всем предстоит сделать выводы из происходящих событий. И эти выводы будут касаться не только арабского мира.
Режимы, однотипные египетскому, существуют повсюду. У них разный возраст и они сложились в разных условиях. Некоторые стали результатом отката демократической волны после народных революций. Другие закрепились в результате благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, высоких цен на ресурсы. Многие поставили во главу угла задачи ускоренного экономического развития и нередко решали эти задачи успешно. На определенном этапе у многих сложилось впечатление, что между этими режимами и народами этих стран возник "контракт": экономический рост в обмен на свободу и права человека.
Но у всех этих режимов есть серьезный изъян - отрыв власти от общества, нарушение обратных связей, без которых власть рано или поздно становится бесконтрольной. Сейчас лидеры таких режимов получили сигнал тревоги. Может быть, они продолжают убеждать себя, что у них все не так уж плохо, что они "контролируют ситуа- цию". Но они не могут не спрашивать себя: насколько устойчив этот "контроль"? Думаю, в глубине души они понимают, что он не вечен, что он все больше превращается в формальность. А из этого вытекает вопрос: как действовать дальше.
Уверен, надо набраться мужества и пойти на реальные перемены. Потому что править бесконтрольно до бесконечности все равно не получится. Об этом в полный голос заявили сотни тысяч граждан Туниса, Египта, Ливии, лица которых сегодня показывают телевизионные каналы.
Р. Г.: Результатом горбачевского "нового мышления" стал советско-американский диалог по ядерному разоружению и подписание (1987 г.) Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Затем последовали переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений и обычных вооружений, о запрете химического, бактериологического и биологического оружия. Как Вы рассматриваете сегодняшний диалог Москвы и Вашингтона по СНВ, и какие первоочередные задачи стороны должны решать в сфере международной безопасности?
М. Г.: Если коротко, то: надо идти дальше.
Ратификация нового Договора по СНВ, подписанного в апреле президентами Обамой и Медведевым, - событие долгожданное, результат упорной борьбы - свидетельствует о серьезном шаге вперед и США, и России. Вместе с тем надо понимать, что придется договариваться по ПРО. Предстоят трудные переговоры по тактическому ядерному оружию, поиск реалистической договоренности по проблеме обычных вооружений в Европе. И уже ближайшее время покажет, идет ли речь о риторике, демагогии, прикрывающей стремление к военному превосходству, или о реальной готовности договариваться о снижении военного бремени.
Приоритетной, требующей скорейшего решения, мне представляется проблема ратификации договора о полном запрещении ядерных испытаний. Вырваться из тупика, который уже более 10 лет губит этоважнейшее дело, совершенно необходимо, прежде всего, в интересах нераспространения ядерного оружия.
В 1996 г. договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия был подписан. От других договоров, например от Договора о нераспространении ядерного оружия, он отличается особыми требованиями для его вступления в силу... договор должен быть подписан и ратифицирован всеми 44 странами, выделенными в ка- тегорию "обладателей ядерных технологий". На сегодня это сделали 35 стран, в том числе три члена "ядерного клуба" - Россия, Франция и Великобритания. Однако список "отказников" внушителен: США, Китай, Израиль, Египет, Индонезия, Иран, Индия, Пакистан и КНДР, причем три последних даже не подписали договор.
У каждой из этих стран свои доводы, но доля ответственности - разная. Процесс ратификации резко затормозился после того, как в 1999 г. сенат США отклонил договор. Предлогом для отказа была якобы недостаточная эффективность системы контроля и потребности "технического надзора" за состоянием вооружений. Но, думаю, действительной причиной было желание еще "повзрывать".
Еще большей ошибкой было бы возобновление ядерных испытаний. Ни военных, ни политических выгод из этого США уже не извлекут. Политически эффективным было бы как раз решение о ратификации договора. Можно с уверенностью сказать, что большинство стран, пока отказывающихся сделать это, после положительного решения сената США изменят свою позицию. Да и самые "проблемные" страны, как показывает опыт, не хотели бы быть вечными изгоями, и возможности для диалога с ними есть. Но он может оказаться эффективным только в том случае, если Америка откажется от лицемерной позиции: вам нельзя, а нам, если захотим, можно. Сенаторам надо посмотреть на ситуацию реалистически и серьезно. Политические игры здесь не нужны. Сделав один верный шаг, надо идти дальше.
И еще один важный аргумент. Всеобщая ратификация и вступление в силу договора о запрещении ядерных испытаний станет важным шагом в формировании по- настоящему глобального сообщества государств, сообщества совместной ответственности за будущее человечества не только в сфере безопасности, но и во всех других сферах. А это, как показал глобальный экономический кризис, сегодня необходимо как никогда раньше.