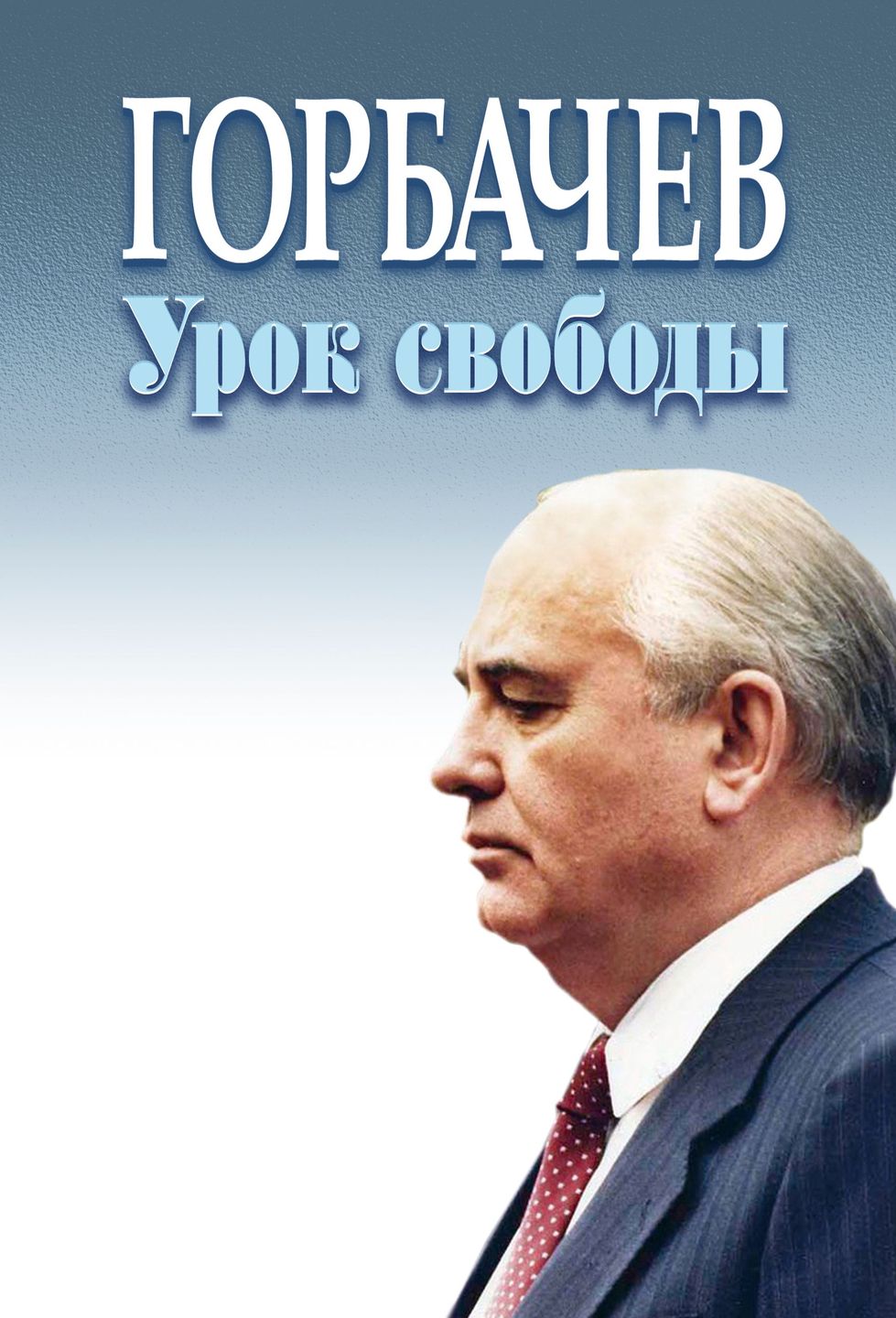Начала и концы истории и либерализма. К 30-летию статьи Фукуямы «Конец истории?»
Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги
Фукуямовский «последний человек», расслабленно вкушавший плоды глобализации и либерализации, оказался неспособным не то что справиться с вызовами национализма, традиционализма, консерватизма, а просто заметить их. Именно потому, что считал себя «последним», венцом «конца истории». А между тем в той самой статье 1989 года Фукуяма, надо отдать ему должное, предупреждал о двух рисках для триумфального шествия либерализма – национализме и религии.
Начать следует с конца. Конца истории. Президент России, похоронивший либерализм вслед за десятками других политических деятелей и мыслителей, которые проделывают то же самое на протяжении десятилетий, а то уже и больше века, невольно срифмовал конец (с его точки зрения) либерального уклада с тридцатилетием объявления его полной и окончательной победы Фрэнсисом Фукуямой летом 1989 года в статье «Конец истории?» в журнале The National Interest[1].
«Закат Европы» за «Волшебную гору»
Конец истории, по Путину, не то чтобы не состоялся – ее консервативно-охранительно-государственническое завершение имело место многократно, в одном только XX веке по нескольку раз, в большей или меньшей степени трагическим образом, с большим или меньшим количеством жертв. Так что нынешний цикл, который мы, не зная, как определить, условно называем право- или левопопулистским, тоже будет иметь свое естественное окончание – маятник качнется в другую сторону.
Больше того, Путин в своих оценках опоздал на несколько лет: и характер общественных настроений, и особенности осмысления происходящего интеллектуалами, и результаты выборов, в том числе последних европейских, показывают, что свой пик неоконсервативная волна, скорее всего, прошла. И актуальна уже не формула Ивана Крастева двух-трехлетней давности – «После Европы»[2], актуален вопрос: каким будет Запад после еще одного кризиса, который он переживает прямо на наших глазах? Тот самый Запад, который «закатывается» со времен Освальда Шпенглера и все никак не закатится, всякий раз выходя из нового кризиса обновленным – в 1945 году, в 1968-м, в 1989-м[3].
То, что произошло в 1989-м – обвал коммунистической системы и казавшееся триумфальным шествие западной политической демократии и свободного рынка как модели для всего мира, – оказалось, по формуле того же Шпенглера, «мнимой вершиной прямолинейно восходящей истории», «возрастной ступенью» в «созревшей культуре»[4]. Притом что сам он присутствовал в той политической культуре, которая сподвигла Томаса Манна на написание «Рассуждений аполитичного», а самого Шпенглера вынудила в декабре 1917 года закончить предисловие к первому изданию первого тома «Заката Европы» словами: «Мне остается только добавить пожелание, чтобы эта книга не выглядела совершенно недостойно рядом с военными успехами Германии»[5].
Добро же ему было заканчивать свой титанический труд в 1922 году в Бланкенбурге у подножия Гарца, утопающего в маковых полях, а Томасу Манну переселять персонажа «Волшебной горы» из давосского санатория на другие поля – Первой мировой: эрозия Европы приобрела отчетливо контрастные варварские формы. Закат состоялся, но начался и рассвет, что не исключило целой череды новых закатов и рассветов. На то и кризисы, чтобы из них выходить.
У каждого свой конец
Всю свою последующую карьеру Фрэнсис Фукуяма, бывший работник Госдепартамента, ставший самым знаменитым политическим ученым посткоммунистической эпохи, был вынужден оправдываться за свой заголовок. Всякий раз напоминал, что в его статье (правда, не в последовавшей за ней книге) после «Конца истории» стоял вопросительный знак, чего нельзя сказать о «Закате Европы» – Шпенглер был не из сомневающихся.
Фукуяма и сам предложил более нюансированный анализ происходящих в истории процессов в двухтомнике «The Origins of Political Order» и «Political Order and Political Decay», а в 2018-м выпустил книгу, по сути дела, о причинах «конца конца» истории и истоках современного популизма – «Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition». Закаты же и рассветы Запада (без одержимости рассуждениями о либерализме) стали предметом многочисленных работ, в том числе бестселлеров «Why Nations Fail» Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона и «Civilization. The West and the Rest» Найала Фергюсона.
Если дать себе труд почитать аутентичного Фукуяму, то станут очевидны и его прекраснодушные иллюзии, которые, вообще говоря, в 1989 году были естественными, и вполне сдержанный анализ того, что происходило, происходит и может произойти. «Конец истории» – метафора, причем далеко не новая, идущая от Гегеля и Маркса, просто Фукуяма нашел правильные место и время, чтобы наклеить на период падения коммунистической системы это ярлык, не более того.
Собственно, речь шла не о конце истории как таковом – в том же 1989-м много чего происходило архаичного и варварского, от событий на площади Тяньаньмэнь до фетвы в адрес Салмана Рушди, – а о конце коммунистической системы.
Прекраснодушие Фукуямы в 1989-м, в annus mirabilis, вполне объяснимо. Больше того, его можно назвать пророческим: да, к появлению статьи уже состоялся вывод советских войск из Афганистана, первые относительно свободные выборы в СССР, круглый стол в Польше, но еще не начался шквал бархатных революций почти во всех странах Восточной Европы, не рухнула Берлинская стена, не протянулась многокилометровая «балтийская цепь», символическим образом покончившая с советским периодом в странах Балтии, не была дана жесткая политическая оценка пакту Молотова – Риббентропа и вводу советских войск в Афганистан. Все это лишь предстояло и затем самым наглядным образом подтверждало правоту Фукуямы.
Либеральная демократия, по Фукуяме, победила коммунизм и фашизм, стала конечной точкой идеологического развития человечества и, говоря сегодняшним языком, лучшей из управленческих практик. «Я использовал слово “история” в гегелевско-марксовом смысле, имея в виду развитие и модернизацию, – оправдывался стэнфордский профессор в своей последней книге «Идентичность». – Слово “конец” я использовал не в значении “завершение”, а в значении “цель” или “задача”»[6].
В 1989-м Фукуяма утверждал, что либерализм победил в сфере сознания, но ему еще далеко до победы в материальном мире, хотя скорее ход последующих событий показал обратную зависимость. Спустя почти три десятилетия он признавался, что превращение мира в условную «Данию» (getting to Denmark) оказалось процессом гораздо более сложным, чем он предполагал, а либеральная демократия иногда способна приходить в упадок, или вообще возможно реверсивное развитие.
Впрочем, как раз с гегельянской точки зрения Фрэнсис Фукуяма не ошибся. Свобода[7] лучше, чем несвобода, свободный рынок эффективнее государственного капитализма, буржуазная эволюция лучше, чем происходящая на наших глазах неоконсервативная революция. Просто нет у либеральной эволюции конца, не говоря уже о том, что естественными элементами истории являются серьезные отклонения от нормативных моделей. Скорее можно вести речь не о конце истории, а о «концах истории», коррекции в развитии.
Главный гегельянец XX века Александр Кожев еще во второй половине 1930-х годов обозначил конец истории началом XIX столетия. Спустя два десятилетия в строительстве европейского общего рынка он обнаружил еще одно подтверждение своей правоты (а в 1952-м Конрад Аденауэр заявил, что общей идеологией может стать только «идеология Европы»). В 1923 году Эдмунд Гуссерль увидел в «европейском культурном усилии» финальную точку развития человечества, притом что перед Первой мировой войной состоялась «европеизация всех остальных цивилизаций».
Правда, европеизация у каждого оказалась своя – у кого в образе сталинской индустриализации, у иных, как у Мартина Хайдеггера, ученика Гуссерля, предавшего учителя, свелась к народному духу, воплощенному в его убежище, die Hutte, в горах Шварцвальда. Правда, народный дух у него трансформировался в национал-социалистический.
Всепобеждающий ресентимент
Если оценивать сегодняшний день с позиций «антиконца истории», можно согласиться с Иваном Крастевым в том, что идеология западного универсализма потерпела двойное поражение: ставятся под сомнение ценности 1968 года: права человека и права меньшинств (ибо на сцену вышло его величество большинство – когда-то молчаливое, а теперь обретшее голос и представительство) и идеи 1989-го – слияния наций в либеральных посткоммунистических универсалистских объятиях (политическая демократия и либеральная глобалистская рыночная экономика)[8].
Катастрофа 9/11 объявила новую эпоху – период гибридной войны проигравших от конца истории с победителями образца 1989 года, зацикленными на своем евроатлантизме и не замечавшими, в терминах Найала Фергюсона, the Rest, весь остальной мир.
Нациям, временно попавшим под влияние Запада и в 1989 году обретшим свою идентичность именно как западную (потому что она противопоставлялась коммунистической идентичности – национальные революции 30 лет назад были одновременно либеральными), надоело жить в мире, который они вдруг оценили как чужой и имитационный. Началась эра вставания с колен, понимания всего посткоммунистического периода как унизительного для национального самосознания и поисков новой, «подлинно» традиционалистской идентичности.
Фукуямовский «последний человек», расслабленно вкушавший плоды глобализации и либерализации, оказался неспособным не то что справиться с вызовами национализма, традиционализма, консерватизма, а просто заметить их. Именно потому, что считал себя «последним», венцом «конца истории». А между тем в той самой статье 1989 года Фукуяма, надо отдать ему должное, предупреждал о двух рисках для триумфального шествия либерализма – национализме и религии.
В «Идентичности» профессор попытался разобраться с природой популизма: «Современные либеральные демократии не смогли полностью решить проблему thymos. Thymos – это та часть души, которая взыскует признания достоинства; isothymia – это желание быть уважаемым на равной основе с другими людьми; а megalothymia – это стремление к признанию своего превосходства над другими»[9].
Целые нации, продолжает Фукуяма, попали в ловушку isothymia – они не чувствовали себя равными тем нациям и институтам, которые установили правила либеральной демократии. Megalothymia – это такая штука, от которой невозможно избавить, но ее можно сдерживать.
Однако нации, которые чувствуют себя униженными, начинают искать свою идентичность в «мегалотимических» лидерах, которые канализируют массовую обиду, ресентимент. Появляются Цезарь, Гитлер, Перон, ну, и в наших обстоятельствах – например, Трамп. И тогда торжествует политика идентичности. Она – самая эффективная. С ее помощью берут власть.
Конец популизма?
Так ли все фатально, ужасно и безысходно? Действительно ли, как сказал Владимир Путин, ставший «Фукуямой наоборот», «либеральная идея изжила себя окончательно»?[10].
Приравнивание либерализма и модернизации к европеизации или – шире – вестернизации – вот что неизменно оставалось и остается в центре многолетних дебатов, в том числе обострившихся сегодня. Вестернизация, капитализм западного типа провалились – тезис не нов, но звучит-то как новый.
Однако, во-первых, капитализм не раз с 1945 года переживал серьезные кризисы, причем не только экономические и не столько политические, сколько социокультурные – кульминацией стал 1968 год. Всякий раз он выживал: казавшаяся ригидной конструкция западной демократии и буржуазных ценностей великолепным образом переварила контркультуру 1960-х и, обуржуазив ее, продолжила движение к другой точке своей эволюции – тому самому 1989 году.
Наверное, уж если в 1968-м буржуазная цивилизация справилась с тем, чтобы инкорпорировать левые ценности, то и в наше время она сможет стерилизовать правопопулистскую волну. Во всяком случае предсказанного Иваном Крастевым превращения Европы в «союз нелиберальных демократий» пока не происходит.
Во-вторых, если сильно упрощать, речь идет о вечном противостоянии «столбовой дороги цивилизации» (равной концу истории, по Фукуяме) и особого пути (и о его разновидностях – от русской «духовности» до исламского фундаментализма). Исторические примеры показывают, что особый путь, как правило, заканчивается массовыми убийствами и гулагами разных оттенков красно-коричневого и черного, а конструкции вечно загнивающего, но не обрушивающегося до основанья западного универсализма, отличаются высокой степенью гуманности и рациональности.
Можно до бесконечности погружаться в детали, говорить, что универсальные либеральные модели ведут к возникновению наций системы «скопировать – вставить» (copypasted nations), что и провоцирует консервативно-популистскую волну. Или толковать – что тоже небессмысленно – об имеющем как минимум полуторавековую историю противостоянии Gemeinschaft (общинно-локального сознания) и Gesellsсhaft (универсализме и открытости миру).
Или говорить – в терминах Фреда Риггса – о половинчатых обществах, результатах «призматической модернизации», когда страна, уже не являющаяся традиционалистской, так и не становится современной в подлинном смысле слова. О гибридных режимах, наконец. Но на выходе речь идет о простой дихотомии: варварски подавляющих режимах или открыто гуманных. И в этом смысле, сугубо с человеческой точки зрения, в обществах и государствах фукуямовского «конца истории» как-то приятнее, сытнее и вольготнее жить.
Если признать, что наша цель – не коммунизм, наверное, фукуямовское целеполагание весьма осмысленно. Хотя, естественно, на этом пути возникают многочисленные препятствия, и, как однажды иронически заметил Виктор Пелевин в «Священной книге оборотня», имея в виду некоторые нюансы постсоветского исторического пути России, «вряд ли история кончится из-за того, что несколько человек украли много денег. Даже если эти несколько человек наймут себе по три Фукуямы каждый».
Нынешний российский политический режим отказывает либерализму в праве на существование. Причем во внутренней политике это становится основой практических действий. У каждого, повторимся, свой благостный «конец истории», и для путинского режима он состоялся в 2014 году в момент присоединения Крыма. Но, как либерализм продолжил свою непростую эволюцию после 1989-го, так и политическая система, целеполагание которой свелось к «строительству светлого прошлого», испытывает некоторые трудности, вступая в эпоху «постконца истории».
Не наступает ли окончание «конца конца истории»? Иными словами, не готовится ли к своему возвращению либерализм? Опыт показывает, что слишком звонкое объявление о кончине социально-политического явления, как правило, знаменует начало его возрождения.
__________________________
[1]. Francis Fukuyama. The National Interest, No. 16 (Summer 1989), p.3–18 https://www.jstor.org/stable/24027184?seq=1/subjects
[2]. http://www.upenn.edu/pennpress/book/15679.html
[3]. https://carnegie.ru/commentary/76337
[4]. Освальд Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1, Гештальт и действительность. М., Мысль, 1993. С.173
[5]. Там же. С.127.
[6]. Francis Fukuyama, Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Profile Books, 2018. P.xii.
[7]. Кристофер Коукер. Сумерки Запада. М., МШПИ, 2009. С.140–141.
[8]. https://www.amazon.de/Scheitert-Europa-Nachahmung-ihre-Schattenseiten/dp/3926397381
[9]. Fukuyama. Op. cit. P.xiii.
[10]. http://kremlin.ru/events/president/news/60836
Московский Центр Карнеги. 09.07.2019