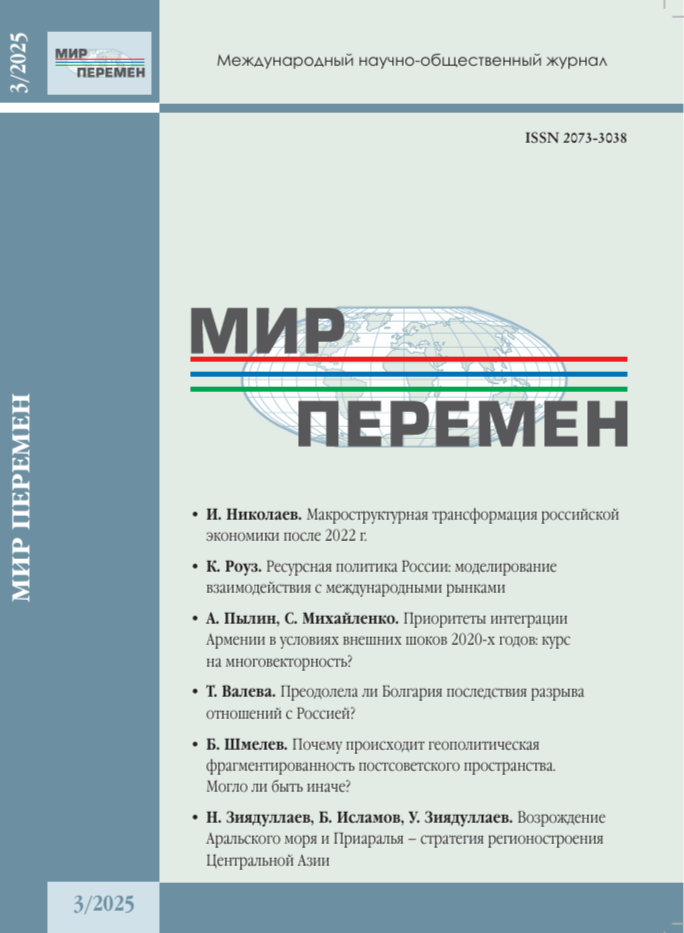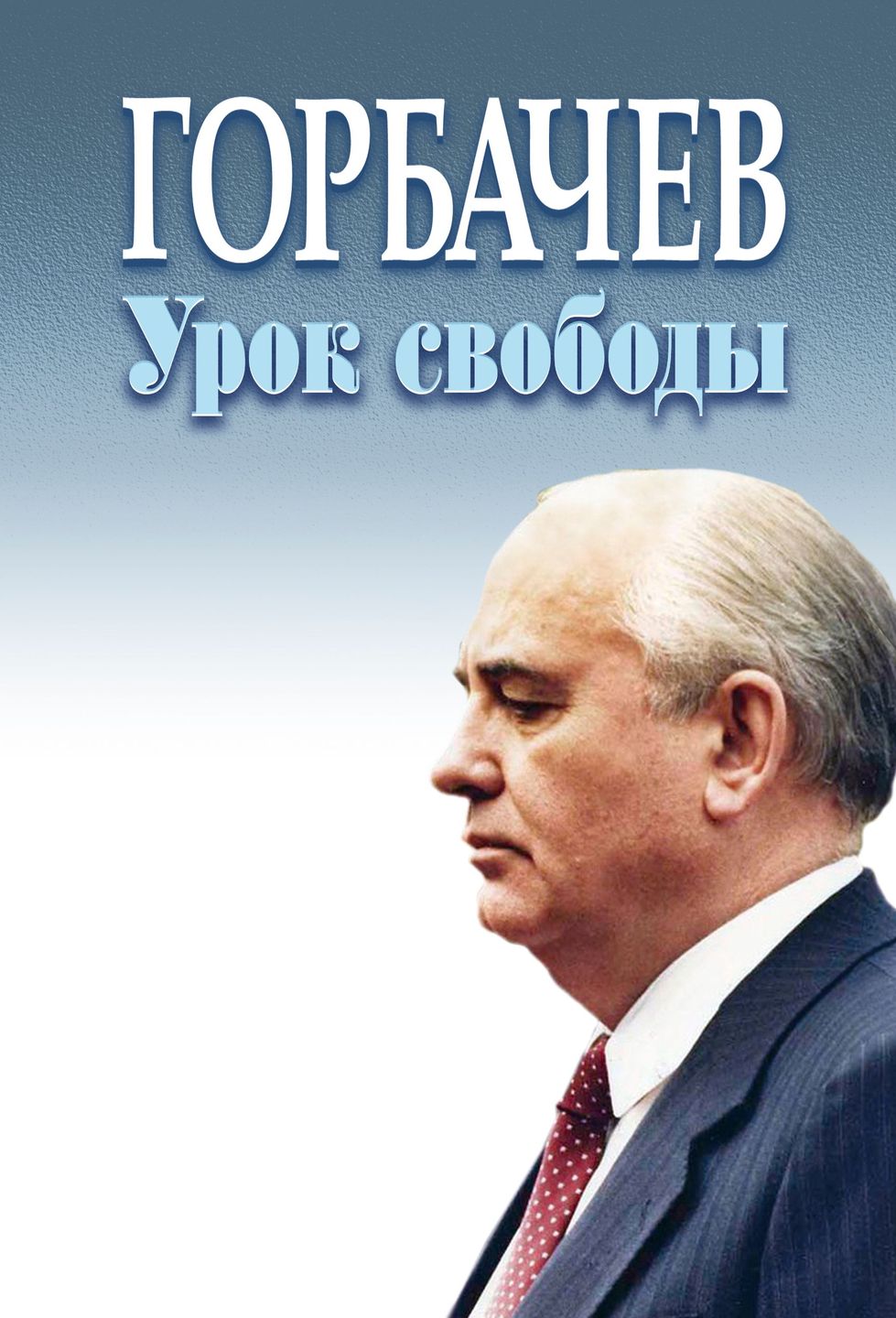Центральная Азия как фронтир Глобального Юга: парадоксы и единство
Алексей Михалёв, д.полит.н., профессор, директор Центра изучения политических трансформаций (Улан-Удэ)
Кубатбек Рахимов, PhD in Economics, исполнительный директор общественного фонда «Аппликата – центр стратегических решений» (Бишкек, Киргизия)
Понятие «Глобальный Юг» охватывает сегодня, в зависимости от дефиниций, до 80 процентов населения Земли, именно поэтому оно синонимично «мировому большинству». Прежде чем говорить о Глобальном Юге, нужно определить его границы. На этом этапе сразу появляются разночтения. Канцлер ФРГ Вилли Брандт когда-то провёл границу по 30-й параллели северной широты. По его версии за этим цивилизационным рубежом начинался совершенно другой мир. В брандтовской системе координат советская Средняя Азия не относилась к так называемому «бедному Югу». Но именно она ближе всего к границе между двумя макрорегионами и при любой коррекции определения «бедного Юга» вполне могла быть в него включена. Определять советские «Среднюю Азию и Казахстан» или нынешнюю Центральную Азию как Глобальный Юг всегда было сложно из-за высокого уровня образования и качества медицины. Однако бедность и острая нехватка пресной воды дают возможность говорить о том, что некоторые из пяти постсоветских республик уже стали частью Глобального Юга.
Сегодня дихотомия «Север – Юг» – это не просто попытка обретения новой формы социальной справедливости, но и обоснованная антиколониальная риторика. В сущности, это неомарксистское прочтение мирового неравноправия. Отсылая нас к идеям, с одной стороны, Мао Цзэдуна, а с другой – Иммануила Валлерстайна, концепция Глобального Юга становится инструментом борьбы за преодоление несправедливого распределения благосостояния на планете Земля.
Появились и другие линии разграничения «Севера» и «Юга» как экономических систем. Но единство в понимании всё же сохранено. Современный Глобальный Юг – это единство в многообразии цивилизаций, экономических укладов и культурных доминант. Мы говорим «Глобальный Юг» – и подразумеваем структуры, которые его представляют на международной арене: ШОС, БРИКС+, отчасти ЕАЭС. Именно они формируют «голос» Глобального Юга. Из интеллектуальной абстракции или воображаемого пространства Глобальный Юг уже давно стал реальным местом столкновения экономических и политических интересов, а Центральная Азия – его фронтиром.
Иначе говоря, Центральная Азия – это контактная зона, где пересекаются интересы Глобального Севера и стран Юга.
Современная Центральная Азия всё больше становится для Глобального Юга коммуникационным мостом, позволяющим находить компромисс в условиях геополитических кризисов современности. В системе же отношений «Юг – Юг» Центральная Азия также стала одним из ключевых геополитических узлов. Дипломатические проекты региона, в особенности C5+, позволили сформировать площадку для диалога. Формат переговоров С5+ – это способ функционирования фронтира, всё ещё не отрефлексированного как фронтир, что является парадоксом эпохи поляризации мира. Особенно хорошо данная фронтирность просматривается при взгляде с позиций партнёрства Big2 (Россия + Китай), между границами которого зажат Центральноазиатский регион. Именно поэтому диалог в рамках С5+ становится столь значимым и перспективным. Эта площадка для диалога важна, но она – лишь одна из многих. С5+ в перспективе имеет шансы для выработки конвенциональной формулы для самоопределения Глобального Юга.
Рефлексия относительно того, что Центральная Азия – это фронтир Глобального Севера и Юга, ещё не осуществлена ни в самом регионе, ни вне его пределов. Мы можем предположить, что осмысление ещё предстоит на самых разных площадках и не факт, что экспертное сообщество придёт к единодушному одобрению этой идеи. На территории Центральной Азии пересекаются интересы России, Китая, Индии, США, Франции, Соединённого Королевства и многих других стран. Подобной характеристикой сегодня могут похвастать ещё несколько регионов, но Центральная Азия всё же выделяется тем, что функция моста между Востоком и Западом, Севером и Югом является здесь цивилизационной доминантой ещё со времён Шёлкового пути.
Кроме того, этот регион обладает значительным объёмом запасов природных ресурсов, без которых невозможно обеспечивать развитие экономик мира в целом. В «Ежегоднике мировой энергетической статистики» Британской нефтяной корпорации за 2019 год говорится, что доказанные запасы нефти Центральной Азии составляют около 4,1 миллиарда тонн, что составляет около 1,8 процента от общих мировых доказанных запасов нефти.
Доказанные запасы природного газа в размере 21,7 триллиона кубометров составляют около 11 процентов от общих мировых доказанных запасов газа. Эти запасы углеводородов сосредоточены в основном в трёх странах: Казахстане, Туркмении и Узбекистане. Казахстан обладает крупнейшими мощностями по хранению и разработке нефти в Центральной Азии; запасы нефти этой страны в 2017 году составляли 3,93 миллиарда тонн, занимая 12-е место в мире и составляя около 1,8 процента от общего известного мирового объёма[1]. Без участия Центральной Азии сложно обсуждать большие проекты Глобального Севера или Юга, поскольку, кроме углеводородов, регион богат ураном и редкоземельными металлами.
Сейчас в Центральной Азии реализуются передовые проекты Росатома, которые позволят преодолеть существующий дефицит энергоресурсов. В условиях мировой гонки за урановыми месторождениями проекты Росатома обеспечивают развитие, а не выработку ценных залежей. Этот пример важен для того, чтобы показать разницу между «антиколониальными» проектами Big2 и французскими инициативами в сфере атомной энергетики. Выход из парадигмы отношений «богатый Север – бедный Юг» возможен в случае преодоления всё нарастающего энергодефицита. В этих условиях Китай является безусловным мировым лидером по наращиванию мощностей в области возобновляемой энергии в странах Глобального Юга и продвигает свои технологи на мировые рынки технологий в сфере энергетики. Сама дефиниция Юга подразумевает наличие практически неисчерпаемого источника энергии – солнца. Китайские и российские компании активно продвигают проекты по возобновляемым источникам энергии в странах Центральной Азии, и в ближайшие годы мы увидим весьма впечатляющие результаты такой политики.
Резкое наращивание энергетического потенциала стран по обе стороны от Центральной Азии автоматически открывает для неё перспективы в плане, например, добычи подземных вод в интересах сельского хозяйства, значимого роста промышленности и бурного развития городов как ключевых узлов экономического роста. Китай и Россия одинаково успешно, хотя и ассиметрично, продвигают в странах Центральной Азии энергетические проекты. Этот опыт может быть модельным для стран Глобального Юга. Пограничное социально-экономическое положение Центральной Азии – это ресурс для стран – лидеров Глобального Юга. Например, наличие в регионе рабочей силы, способной управлять сложными производственными процессами, от сборочных линий до высокотехнологичного производства, позволяет внедрять сложные проекты, требующие как качества трудовых резервов, так и развитой инфраструктуры.
Центральная Азия как фронтирная зона для Big2 – это не только многополярность и равноправие, но и попытка решить проблему бедности по трём из трёх ключевых критериев ООН (доступ к образованию, электроэнергии и питьевой воде). Проблема высыхания Аральского моря, нехватка пресной воды, неравномерность распределения энергоресурсов – всё это факторы, влияющие не только на непосредственных соседей Центральной Азии (страны Big2), но и на Глобальный Юг в целом. Отсюда и ключевой статус вопроса о возобновляемых источниках энергии, в частности о том, станет ли КНР ключевым/монопольным поставщиком технологий переработки солнечной энергии.
Завершая размышления о сложном большинстве Глобального Юга, хочется предположить, что его многообразие и полифония могут оказаться сильной стороной. Это послужит основой равноправного многополярного мира, о котором говорили и Си Цзиньпин, и Владимир Путин. Конечно, стоит задуматься и о границах Глобального Юга, и о том, как может смещаться пресловутая линия Брандта, и о роли таких модельных регионов сотрудничества, как Центральная Азия. Сегодня ответы на эти вопросы всё ещё требуют тщательного осмысления.
Развитие фронтирных зон Глобального Юга так важно, потому что это территории для диалога. Это важно и для самих контактных зон, поскольку на пересечении интересов могут возникать особые возможности для развития. Но Центральная Азия, как и Глобальный Юг, –понятие неоднородное и противоречивое. Оба термина – результат объединения разнородных государств в более крупные смысловые единицы. Однако язык больших категорий, порождённый временем ещё большей турбулентности, требует от нас оперировать громоздкими абстракциями и игнорировать неоднородность.
___________________
[1]. ZHOU Qiang, HE Ze, YANG Yu. Energy geopolitics in Central Asia: China’s involvement and responses // Journal of Geographical Sciences. 2020. №11. Vol. 30. P. 1872.
Международный дискуссионный клуб "Валдай". 25.09.2025