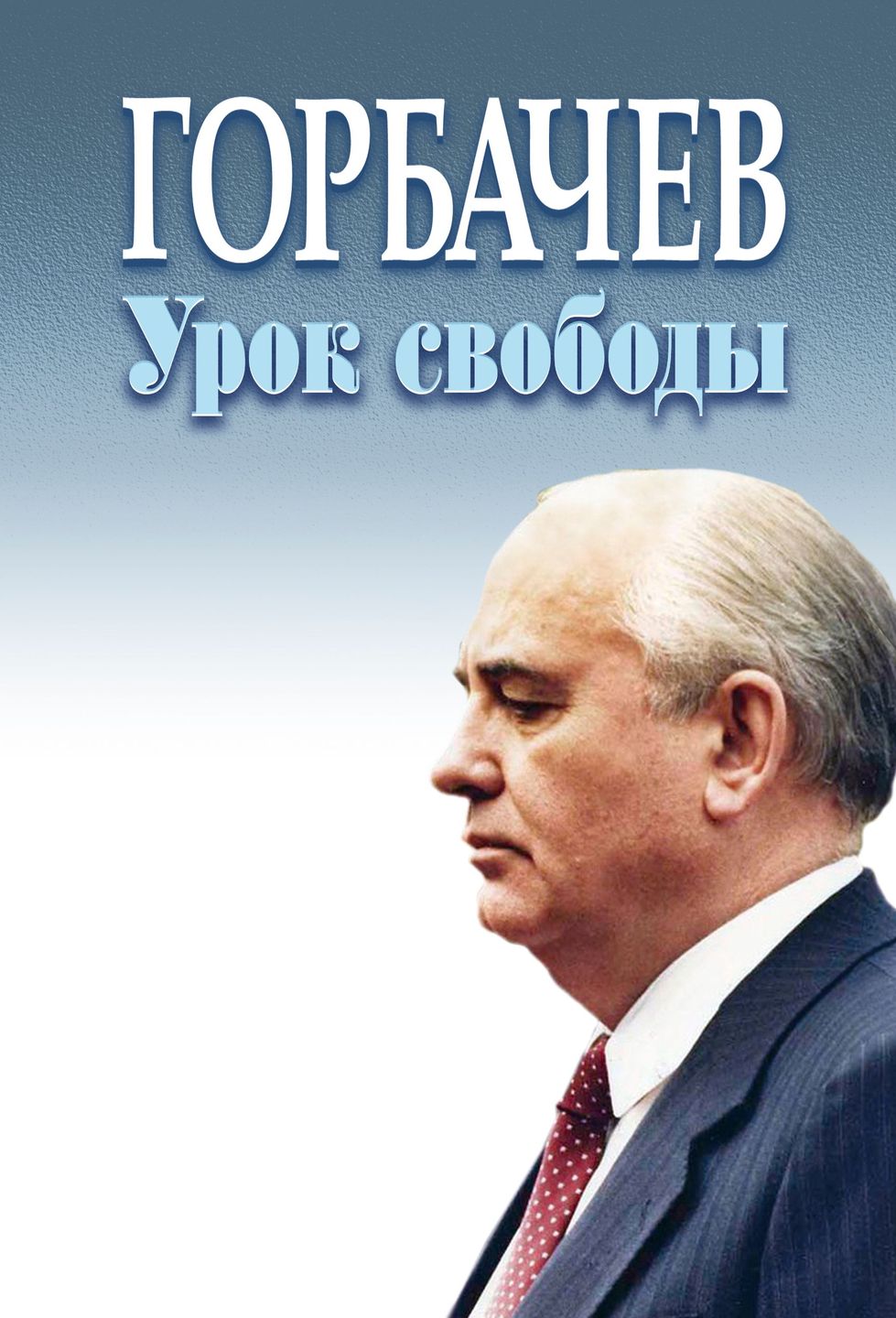У экономики нет общего понимания реальности
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает главным недостатком экономической науки ее приверженность рыночному фундаментализму, уверен, что мир стоит на пороге большой смуты или даже вползает в нее, и предлагает решение в виде концепции экономической социодинамики.
— Экономика — совокупность знаний о ведении хозяйства. Что же случилось с хозяйством в пандемию и что по этому поводу говорят законы экономики?
— Экономика и экономическая теория сегодня в ожидании обновления, можно даже сказать, в кризисе. И дело не в пандемии. Еще совсем недавно, лет 15 назад, до кризиса 2008−2009 годов, экономическая наука во всем мире считалась весьма респектабельной, авторитетной, она еще не воспринималась как точная наука, но была близка к тому, обладала неоспоримым лидерством, если не превосходством, в том смысле, что проникала в другие гуманитарные дисциплины — социологию, психологию, даже в историю и философию. Заговорили даже о таком феномене, как «экономический империализм». Но после рецессии 2008−2009 годов царит разброд и шатание!
И тому есть три причины.
Первая, на мой взгляд, это гипертрофированная математизация экономических исследований. Влияние математики сверхмощное, и в этом много достойного, но этот метод не способен охватить, описать качественные процессы в экономике. Математический изъян — в том, что математика делает экономику виртуальной наукой, отрывает ее от эмпирической почвы, то есть экспансия математики сплошь и рядом сопровождается выхолащиванием экономического содержания.
Вторая причина, второй крупный недостаток современной теоретической экономики — ее очевидная фрагментарность. Современный экономист занимается отдельной частью науки, живет в расколотой, как выразился один мой коллега, «балканизированной» реальности, в которой каждый фрагмент существует отдельно от другого. Современный же растерянный мир нуждается, как я думаю, в целостной картине экономического универсума, то есть всеохватывающей теории, чтобы уяснить, что с ним происходит и куда он идет, а в реальной действительности главенствует принцип сосуществования партикулярных концепций. Поэтому и нет общего понимания реальности, и без того все более противоречивой.
Третья же причина, самый существенный недостаток современной теоретической экономики — ее идеологическая направленность, а именно преданность так называемому рыночному фундаментализму, суть которого сводится к безусловной благотворности «свободного» рынка и минимизации участия государства в экономических процессах.
— А в чем, собственно, проблема?
— Оказалось, что демонизация государства не просто контрпродуктивна, но и опасна. В сущности, она привела к тому, что надежда на благотворное влияние социального дарвинизма оказалась иллюзией.
А самая жуткая вещь заключается в том, что мир вернулся к неравенству, которое было 100 лет назад, и у нас, в России, породило Октябрьскую революцию, а в Европе и Америке Великую депрессию1929–1933 годов.
После чего, как известно, начался расцвет тоталитарных режимов, послуживших питательной почвой для самой разрушительной в истории человечества Второй мировой войны.
Сегодня мы вновь оказались на пороге большой смуты. Она даже уже началась, и всему миру ясно, что с нею что-то надо делать. Но помимо всех этих вопросов: каковы издержки разрастания государственной активности, готово ли общество мириться с ними, даже если признается необходимость вмешательства государства в механизмы саморегулирования,— встает одна гигантская проблема. Мы видим, что пандемия, напряженность геополитики, нарастающая климатическая угроза — все они носят реальный характер. И любим ли мы государство или нет, только оно может отвечать на глобальные вызовы.
О климате. Установка на обогащение ведет только к дальнейшему потеплению климата. Чтобы удовлетворять свои эгоистические потребности, прежде всего используя ископаемое сырье и топливо, бизнес только ухудшает ситуацию. Вмешательство государства может изменить ситуацию, но его вмешательство может быть хорошим или плохим, и это принципиально. Общество все больше нуждается в государственной активности, а она сплошь и рядом не помогает ему, а, наоборот, вредит!
То есть лекарство может быть хуже болезни.
— У вас есть рецепты решения проблемы?
— Несмотря на природную скромность, хочу немного похвалиться. Институт экономики РАН разрабатывает новую теорию участия государства в экономике современного общества, в котором радикальные изменения в технологии и бурный научно-технический прогресс впервые создают шанс для комфортной жизни всего человечества. Но увеличиваются угрозы ему, растут риски, что оно погибнет!
Еще хочу подчеркнуть, что в наше время, когда мир стремительно усложняется, особенно бессмысленны призывы к «минимальному государству».
Скорее наоборот: все мы стали ныне свидетелями превращения государства из субъекта рыночного пространства фактически в его организатора (плеймейкера), что выдвигает особые требования к разрабатываемой теории.
В частности, представляется необходимым дополнить количественный анализ связей и соотношений в современной экономике качественным, что означает неизбежность применения междисциплинарного подхода к исследованию вопроса (философия, социология, политология и т.д.).
Все это побудило нас по-новому взглянуть на соотношение государственной активности и частного предпринимательства. В свое время я и профессор Александр Рубинштейн разработали, как оказалось, основу предполагаемой теории, а именно концепцию экономической социодинамики (КЭС), стержнем которой является положение о существовании особого интереса общества, несводимого к интересам его отдельных членов. Очевидно, что данный тезис входит в явное противоречие с базовым принципом неоклассической теории — методологическим индивидуализмом. Но суть КЭС в синтезе индивидуализма и холизма без всякой иерархии между ними. То и другое имеет равную ценность.
Отсюда и новая трактовка государственной активности. На место нежелательного для неоклассики «вмешательства» государства в экономику приходит его легитимное систематическое участие в ней, а «бюджетное бремя» рассматривается как целесообразные государственные расходы на реализацию интересов общества в целом.
Речь здесь прежде всего идет о законности регулярного финансирования государством образования, науки, здравоохранения и культуры, а также о его расходах на модернизацию структуры экономического развития (промышленная политика).
В последнее время наблюдаю все больше признаков явного или неявного признания идей КЭС авторитетными российскими и зарубежными учеными. Здесь достаточно упомянуть недавнее Открытое письмо 17 лауреатов Нобелевской премии по экономическим наукам в поддержку программы экономического восстановления в США. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем она войдет в мейнстрим экономической мысли и внесет свой вклад в построение модели экономики, отвечающей суровым вызовам нашего времени.
— В чем практический смысл новой теории?
— Понимаете, теория, как бы красиво она ни выглядела, действительно не имеет особого смысла, если она слабо связана с практикой. И в связи с этим я хочу подчеркнуть исключительную практическую актуальность разрабатываемой теории, имея в виду выявление и описание такого феномена, как «патерналистский провал», представляющий собой комбинацию изъянов общественного выбора и нерациональных действий бюрократии, призванной такой выбор осуществлять.
А то, что такие провалы происходят сплошь и рядом, доказывать не надо. Вот есть государственный бюджет, но нет научно обоснованного принципа того, сколько надо тратить на оборону, на спорт, здоровье, культуру. Норму делают люди, которых мы выбрали, и проблема в том, как через них обеспечить приближение к смутно угадываемой нами цели.
Уж совсем грубо: в момент правления президента Бориса Ельцина больше денег тратили на теннис, в случае с президентом Владимиром Путиным — на дзюдо. Это правильно или нет?
Наука не дает ответ на этот вопрос, она лишь говорит: чтобы обеспечить более или менее адекватное решение, его нужно глубоко и всесторонне обсуждать, не должно быть произвола в выборе.
Отсюда вытекает практическая значимость демократии, которая не просто хороша сама по себе, но еще и стимулирует принятие более качественных государственных решений. Для экономики это важно, как и сменяемость власти, и для России — особенно потому, что мы склонны бросаться из одной идеологической крайности в другую.
Страна признала утопизм директивного планирования, а сейчас, по-моему, готова признать утопизм «свободного» рынка. Кажется, ей нужен особый, адекватный подход к диагностике и лечению экономических недугов, к преодолению затянувшейся общей стагнации. Речь идет о середине: не о свободной рыночной экономике, не о возвращении к административно-командной экономике. Я бы сказал так: речь идет о социально-экологической рыночной экономике.
Угроза климатической катастрофы диктует: важна пропорция в сочетании свободы, которую несет рынок, и справедливости, которую несет государственное управление. Но управление, не связанное с автократией, сложившейся у нас.
В общем, я считаю, сегодня главное противоречие эпохи — это противоречие между свободой человека и его безопасностью.
Пандемия дает хорошее основание для закабаления людей, повсеместного установления жесткой вертикали власти. Это безопасность, но такая безопасность парализует свободу, без которой не может быть творческой активности, бизнеса и всего чего хотите.
Это противоречие реальное. И очень опасное, поскольку развивается в условиях почти повсеместного вопиющего материального неравенства. Уместно, пожалуй, напомнить слова президента Джона Кеннеди: «Те, кто считает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной». Это точно еще и потому, что наше смутное время характеризуется потерей ценности рационального мышления, кризисом политических элит, я уж не говорю о распространении очагов международного терроризма.
— Где выход из сложившейся ситуации?
— Для этого, несомненно, есть один путь, который в политической науке обозначается как конвергенция — сохранение социализма с человеческим лицом и капитализма с человеческим лицом.
Иначе говоря, капитализм берет от социализма справедливость, а социализм — личный интерес и демократию.
Раньше это имело значение, социализм, который был во многом страшным, но все же социально справедливым, что было не так уж плохо. Даже Запад ориентировался на его достижения, пытался копировать.
Но после того как социализм потерпел идеологическое поражение, почти повсюду возникло обожание рынка, в России это было особенно заметно и трагично. Историческое невезение — в том, что наш отход от социалистической утопии начался в тот момент, когда на Западе был пик любви к свободному рынку и ненависти к государству. И потому в 1990-е годы все рекомендации, которые мы получили, были рекомендациями «зверского капитализма». Говорили: вам будет легче, у вас нет сильных профсоюзов, сильного рабочего класса. А наш «сильный» рабочий класс сам хотел чистого капитализма. Шахтеры стучали касками, требуя частной собственности на шахты.
Многие считают, что конвергенция у нас случилась, но негативная — мы взяли все плохое от капитализма, и теперь остается одно: спасайся кто может, выживает только сильный. Чистый капитализм XIX века, с одной стороны, без профсоюзов, с полным феодальным произволом так называемых собственников, а с другой стороны — деспотический вариант политической системы от государственного социализма. И это нехорошая конвергенция.
Сегодня есть понимание этого, но нет общего понимания того, что делать.
Экономисты могут многое объяснить, но из того, что происходит, не следует, что все-таки надо делать. Диагноз можно поставить правильно, а потом спорить о лечении: трудно сказать, каким оно должно быть. Все надо обсуждать, но на равноправной основе, не так, как говорят лидеры нашего парламента: вы нас выбрали — теперь делайте так, как мы вам будем говорить!
Интервью подготовил Владимир Александров, группа «Прямая речь»
Коммерсантъ. 11.12.2021