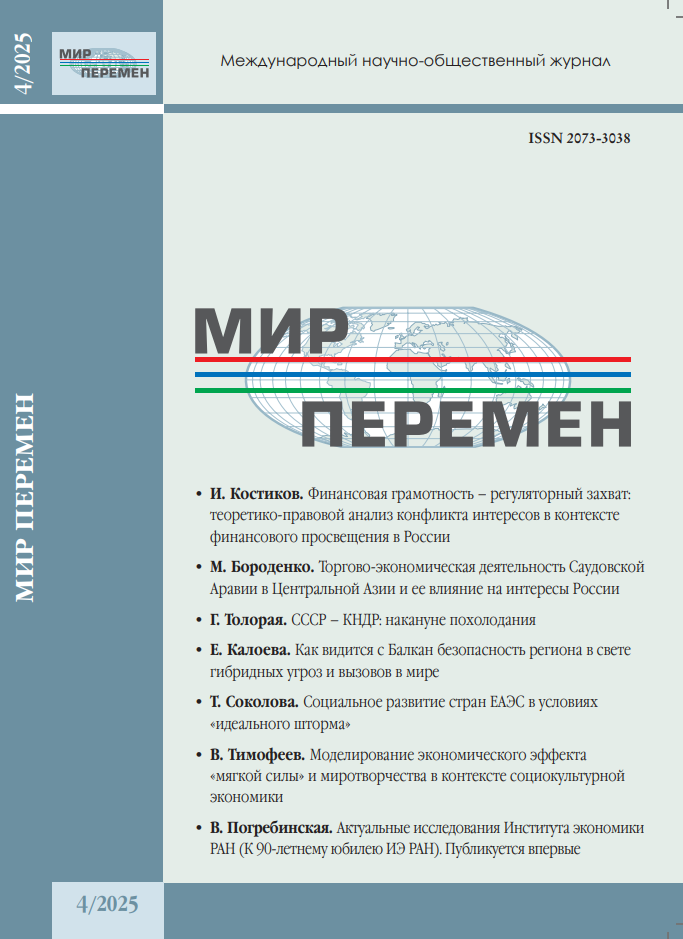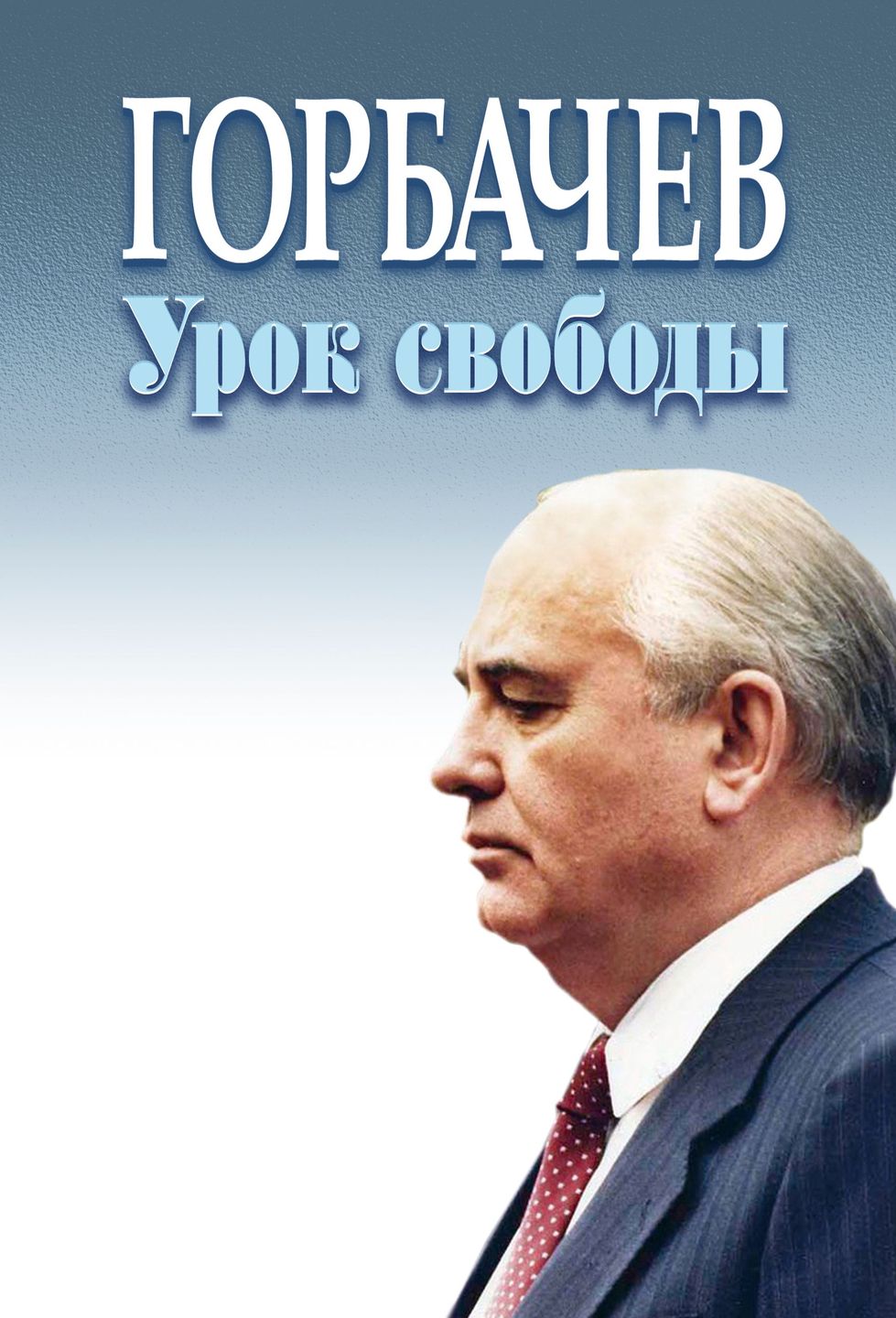МТК "Север – Юг": через тернии к звездам?
Алексей Чихачев, к.полит.н., доцент Кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ
Александр Сабанцев, стажер-исследователь Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ
В период острого военно-политического противостояния с Западом, приобретающего долгосрочный характер, повышенную значимость для России получает задача построения альтернативных торгово-логистических маршрутов. Особо выделяется в этом отношении проект международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», который за счет ярко выраженного сухопутного компонента позволит странам-участницам сократить зависимость от морских перевозок, уязвимых перед региональными конфликтами и новым витком великодержавного соперничества на просторах Мирового океана. Ожидаемые экономические выгоды от МТК вроде ускорения доставки грузов между конечными точками (Санкт-Петербург — Мумбаи) хорошо известны. Вместе с тем, учитывая стратегическую значимость проекта для России и его вписанность в более широкий «Евразийский транспортный каркас», невозможно игнорировать многочисленные вызовы для его реализации.
Безопасность и конкуренция
Прежде всего необходимо отметить, что, позволяя минимизировать эффект одних факторов нестабильности (напряженность в Красном море, Малаккском проливе), МТК «Север — Юг» неизбежно сталкивается с другими — коль скоро международная логистика, говоря словами российского эксперта А. Безбородова, выступает «самым свободным бизнесом, больше всего страдающим от политики»[1]. Эти факторы в данном случае представляется возможным разделить на две группы.
С одной стороны, коридор проходит через регионы с высокой политической турбулентностью и пересечением интересов крупных держав. Так, ключевым и наиболее уязвимым звеном проекта выступает Иран, на территории которого сходятся все три возможные ветки МТК (западная — через Азербайджан, восточная — через Казахстан и Туркменистан, центральная — по Каспийскому морю). В свете летнего противостояния между Тегераном и американо-израильской коалицией актуализировалась проблема его внутренней и внешней устойчивости, рисков возобновления эскалации. Хотя иранская сторона продолжает обозначать предметный интерес к проекту, открытым вопросом остается безопасность грузоперевозок в южной части МТК (от Ирана до Индии), непосредственно соседствующей с Персидским заливом и Ормузским проливом, угроза перекрытия которого вновь циркулировала в прессе. Начало даже малой «танкерной войны» создаст условия, при которых любые коммуникации в этой части Индийского океана, скорее всего, окажутся серьезно затруднены.
Помимо Ирана, в последнее время весьма чувствительным оказался фактор Азербайджана. Победа в Карабахе в 2023 г. позволила Баку с опорой на Турцию во многом перехватить инициативу в регионе, почувствовать себя менее связанным отношениями с Москвой и приступить к собственным проектам. Последнее выразилось в реактивации (при посреднических усилиях США) проекта Зангезурского коридора, стыкующегося со Срединным коридором из Китая через Центральную Азию и превращающего тем самым Баку в логистический хаб на стыке разных маршрутов. Серьезным поводом для охлаждения отношений с Россией стала и трагедия с самолетом «Азербайджанских авиалиний» в 2024 г. Хотя разногласия, по всей видимости, удалось отчасти сгладить на уровне первых лиц, нет гарантий, что Баку в дальнейшем удастся строго выдерживать баланс между Турцией, Россией и Западом. Между тем именно западная ветка МТК ныне является наиболее загруженной.
С другой стороны, данный коридор — лишь один из многих транспортно-логистических проектов в Большой Евразии, и, соответственно, сталкивается с активностью конкурентов. В частности, если китайская инициатива «Один пояс, один путь» принципиально не противоречит маршруту «Север — Юг» и оба они теоретически могут заработать в синергии, то западные (ТРАСЕКА, Global Gateway) и выгодные Турции (TMTM) проекты предусматривают ведение коммуникаций в обход нашей страны. Соответственно, их успешное развитие в ущерб МТК может привести к ослаблению значимости и присутствия России как партнера в Центральной Азии и на Южном Кавказе. В этом отношении наиболее показательно недавнее оживление центральноазиатской стратегии Евросоюза, в апреле 2025 г. организовавшего саммит, среди прочего, по региональной логистической связанности. Есть разные варианты на руках и у Нью-Дели, оценивающего перспективы торговых связей с Европой как посредством МТК (через территорию России), так и через маршрут «Индия — Ближний Восток — Европа» (IMEC) или привычным путем через Суэц (где снова вырос тоннаж судов после мирного урегулирования по сектору Газа). Более того, конкуренция между отдельными странами «вшита» в сам проект, учитывая несколько конфигураций его претворения в жизнь. Следовательно, стратегической задачей становится недопущение чрезмерной зависимости от одной ветки МТК. В интересах Москвы развивать все три маршрута (включая Транскаспийский и Восточный) и позиционировать себя не просто как участника, а как центральное системообразующее звено «Евразийского транспортного каркаса», интегрирующее, а не конкурирующее с проектами партнеров.
Вместе с тем аспект безопасности имеет значение в случае МТК и в несколько ином смысле — не только как управление рисками на протяжении коридора (обеспечение надежности поставок), но и как гарантия от стратегической уязвимости России без него. В настоящее время российская внешняя торговля по-прежнему критически зависит от портов Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов: за январь–сентябрь 2025 г. грузооборот через первые составил 203,9 млн тонн, через вторые — 193,2 млн тонн. Для сравнения, порты Дальнего Востока имели показатель в 185,5 млн тонн, Арктики — 65,1 млн тонн, а Каспия — всего 5,7 млн тонн. Нахождение портов-лидеров в зоне прямого соприкосновения с НАТО опасно само по себе и требует диверсификации маршрутов, а значит — создания на них инфраструктуры, независимой от контроля недружественных государств. При этом у других маршрутов есть и иные препятствия, не сводящиеся к минным заграждениям или атакам БПЛА: у Трансарктического коридора — сезонные ограничения и разреженность инфраструктуры; у дальневосточного направления — предельная пропускная способность БАМа, Транссиба и перегруженность терминалов. Иными словами, МТК трансформируется для России из коммерческого проекта в элемент стратегической необходимости.
«Мягкие» и «жесткие» барьеры
Тем не менее эффективность МТК «Север — Юг» как долгосрочного инструмента будет стремиться к нулю, если он окажется в реальности неспособен выполнять свои функции. На сегодняшний день существует фундаментальный разрыв между потенциальной грузовой базой, особенно в свете переориентации российских торговых потоков, и текущей пропускной способностью коридора. Совокупная пропускная способность всех веток и сопутствующая инфраструктура сдерживают рост реального спроса. Эти «жесткие» барьеры сосредоточены в нескольких критических «узких местах».
Наиболее известным и критическим из них остается недостроенный 162-километровый железнодорожный участок Решт — Астара на территории Ирана. Его отсутствие создает наиболее заметную «дыру», которая разрывает единую железнодорожную сеть западной ветки МТК — самого востребованного на сегодня маршрута. Данная ситуация вынуждает перегружать товары на автомобильный транспорт, что значительно увеличивает как сроки, так и стоимость перевозок. Хотя в мае 2023 г. было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Россией кредита в 1,3 млрд евро на строительство этого участка, его реализация потребует времени.
Не менее острая ситуация складывается на Транскаспийском маршруте, который сталкивается с двумя системными вызовами. Во-первых, это критическая нехватка и изношенность морского флота. Большинство судов, работающих на Каспии, морально и технически устарели, их средний возраст составляет 35 лет, а совокупная провозная способность не превышает 8 млн тонн в год. Во-вторых, существует серьезная проблема обмеления Каспийского моря и, как следствие, Волго-Каспийского морского судоходного канала, что является существенным инфраструктурным ограничением. Недостаточная глубина не позволяет судам проходить с полной загрузкой. В результате при потенциальной мощности портов Каспийского бассейна в 23,5 млн тонн в 2024 г. обрабатывалось лишь 8,1 млн тонн, что составляет менее 1% (0,9%) от общего объема перевалки грузов во всех российских морских портах.
К этим основным барьерам добавляются и другие, в частности, разница в ширине железнодорожной колеи (1520 мм в России и СНГ против 1435 мм в Иране), требующая смены колесных пар или перевалки грузов, а также в целом низкая пропускная способность и невысокое качество существующих иранских железных дорог, большинство из которых однопутные и неэлектрифицированные. Пока эти «узкие места» не будут «расшиты», МТК «Север — Юг» остается неполноценной, фрагментарной альтернативой. Сохранение этих барьеров означает, что стратегическая уязвимость РФ, связанная с зависимостью от традиционных морских маршрутов, не будет полностью устранена.
Даже при условии решения инфраструктурных проблем, коридор может остаться «мертвым» или неэффективным, если он экономически нерентабелен и административно непроходим. Эти «мягкие» барьеры, включающие логистические и процедурные аспекты, не менее важны, чем «жесткая» инфраструктура.
Ключевая структурная проблема, влияющая на экономическую эффективность коридора, — ярко выраженный торговый дисбаланс. Структура торговли крайне асимметрична: Россия экспортирует на Юг (особенно в Индию) значительно больше, чем импортирует. Эта особенность связана не столько с логистикой, сколько с фундаментальными экономическими причинами — недостаточным уровнем диверсификации и несоответствием качества и стандартов продукции в странах-партнерах, что не стимулирует российских импортеров к углублению закупок. По оценкам авторов, полученным на основе анализа зеркальной торговой статистики Trademap по странам-партнерам РФ, к 2024 г. доля стран, тяготеющих к МТК, в общем экспорте России достигла 26,1%, в то время как в импорте — лишь 10,3%. Этот разрыв в физических объемах грузов напрямую ведет к серьезной логистической проблеме — «порожним контейнерам» и неэффективной обратной загрузке транспорта. Логистические операторы вынуждены закладывать в стоимость перевозки груза на юг затраты на обратный порожний рейс, что значительно увеличивает общие транспортные издержки и снижает конкурентоспособность МТК.
Торговый дисбаланс порождает и другую стратегическую проблему — финансовую. Происходит накопление избыточной иностранной валюты партнеров (в частности, «зависших» индийских рупий), что ограничивает оборот капитала и сдерживает рост взаимных поставок. Ответ на этот вызов требует создания параллельной, суверенной и независимой финансовой и страховой инфраструктуры, включая развитие национальных систем передачи финансовых сообщений и проработку механизмов расчетов в национальных или цифровых валютах.
Данные ограничения усугубляются еще несколькими системными проблемами. Во-первых, это правовая фрагментарность. Существующая нормативная база носит рамочный характер и состоит из разрозненных много- и двусторонних договоренностей, что приводит к неопределенности и росту транзакционных издержек. Во-вторых, отсутствует согласованная тарифная политика. Критически важным сдерживающим фактором выступает отсутствие единого сквозного железнодорожного тарифа, действующего по принципу «от точки до точки». В-третьих, несогласованность таможенных процедур и сложный документооборот, особенно на границе с Ираном, приводят к колоссальным потерям времени. По данным ЭСКАТО ООН, до 50% всего транзитного времени может тратиться на пересечение границ. Наконец, отсутствует единый координационный центр, что приводит к неэффективному управлению логистическими потоками, когда в одном регионе наблюдается профицит вагонов, а в другом — их дефицит.
Внутренний вызов — стратегическая переориентация России
Проведенный анализ показывает, что вызовы безопасности для МТК «Север — Юг» носят комплексный характер и лежат далеко за пределами традиционных военных рисков. Стратегическая ценность коридора сегодня подорвана его физической недоработкой. Критические «узкие места», такие как 162-километровый разрыв на железнодорожном участке Решт — Астара и проблемы на Транскаспийском маршруте, страдающем от обмеления и нехватки современного флота, превращают его в набор фрагментарных, а не единых артерий. Даже если эти «жесткие» барьеры будут устранены, проект рискует увязнуть в «мягких» барьерах: он экономически неустойчив из-за торгового дисбаланса и проблемы «порожних рейсов», что, в свою очередь, порождает финансовые риски, вроде накопления неконвертируемых валют. Все это усугубляется процедурным несовершенством — «лоскутным одеялом» из правовых норм, отсутствием сквозных тарифов и бюрократическими проволочками, «съедающими» время транзита.
Стоит обратить внимание и на то, что в долгосрочной перспективе вызовы для этого проекта и общей концепции развития транспортных коридоров в РФ носят не только инфраструктурный или экономический, но и концептуальный характер. Речь идет о стратегической инерции и устаревших стереотипах при планировании. Десятилетиями транспортная стратегия страны во многом была связана с идей реализации транзитного потенциала России, что было отражено еще на первых страницах «Транспортной стратегии до 2030 года» (в версии 2008 и, в меньшей степени, 2021 гг.). В условиях новой геополитической реальности и актуальных угроз для инфраструктурной системы страны идея «транзитного моста» между Европой и Азией во многом исчерпала себя. Однако данный взгляд продолжает оказывать влияние на восприятие МТК «Север — Юг», который часто инерционно рассматривается через эту старую, «евроцентричную» оптику — как маршрут, всего лишь соединяющий отдельные пункты Европы и Азии.
Сегодня в контексте фундаментального сдвига геоэкономической оси на Восток и Юг, требуется смена парадигмы. Главной целью транспортной политики становится не столько обслуживание чужого транзита, сколько обеспечение суверенитета, внутренней связанности и опережающего пространственного развития самой России. В том числе речь идет о потенциале развития промышленных кластеров российского Зауралья, потенциал которого «заперт» существующей транспортной сетью, ориентированной на широтный вывоз сырья и лишенной эффективных меридиональных (Север — Юг) связей.
Стратегия «сдвига к Уралу и Сибири», или «Сибиризация России», как описывает ее С.А. Караганов, требует создания совершенно нового транспортного каркаса. Соответственно, главное стратегическое ограничение для этого — отсутствие именно меридиональных связей, а новая инфраструктура должна обеспечить макрорегиону Зауралья два стратегических выхода на мировые рынки. Первый — арктический, через интеграцию «до обидного недоиспользованных» великих сибирских рек (Оби, Иртыша, Енисея, Лены) с Северным морским путем через опорные порты. Второй — южный, через создание новых сухопутных коридоров.
Именно здесь и раскрывается новая стратегическая роль МТК «Север — Юг» и видение его долгосрочного развития. В этой новой парадигме он перестает быть просто маршрутом из Балтики в Иран. Возвращаясь к логике С.А. Караганова, сверхочевидной становится «потребность создания и развития каркаса логистических путей “Север — Юг”, которые соединили бы Россию через Сибирь с рынками поднимающейся Азии». В этой новой логике должен доминировать важнейший принцип: «внешние связи, хотя они важны, были бы не целью, а дополнением к внутренней связанности, служили бы внутреннему преобразованию России». Иными словами, сформируется «вертикальная сетка путей», которая, сопрягаясь с другими проектами, как китайский «Один пояс, один путь», создает независимый и самодостаточный транспортный каркас Большой Евразии, где Россия выступала бы центральным системообразующим звеном.
***
Таким образом, проблемы национальной безопасности, связанные с рисками эксплуатации традиционных транспортно-логистических узлов и необходимостью формирования инфраструктуры, устойчивой к внешним шокам и обеспечивающей потребности во внутреннем развитии российских регионов, определяют стратегическое значение всех шагов в рамках МТК «Север — Юг». В то же время, по мнению авторов, он должен рассматриваться не как самоцель, а как функциональное продолжение внутреннего транспортного каркаса России. Его ключевая задача — стать меридиональным выходом к рынкам глобального Юга для новых континентальных промышленных кластеров. Успех коридора будет измеряться не столько тоннами транзита, а его способностью эффективно связать российские индустриальные центры с потребителями в Иране, Индии и других странах мирового большинства, превратившись из «моста» для чужих грузов в «артерию» для экспорта российской продукции.
Статья подготовлена в рамках исследования «Устойчивые морские перевозки в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг» в контексте региональной безопасности» по гранту РНФ (Соглашение № 25-68-00031).
________________________
[1]. Безбородов А.А. Мировая логистика — самый свободный бизнес, больше всего страдающий от политики // Международная аналитика. 2025. № 1. С. 11-19.
РСМД. 10.11.2025