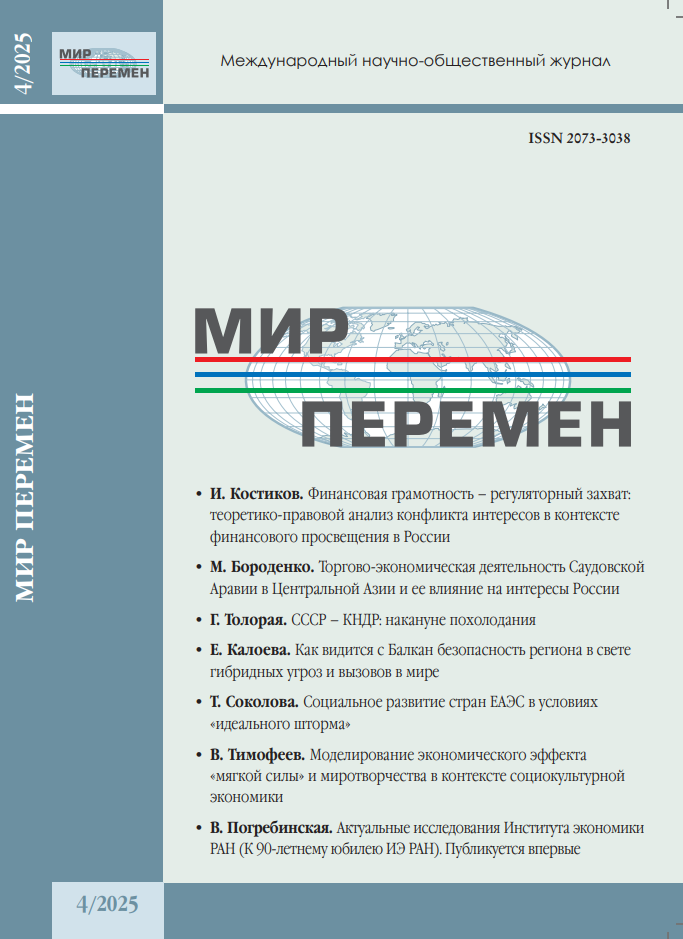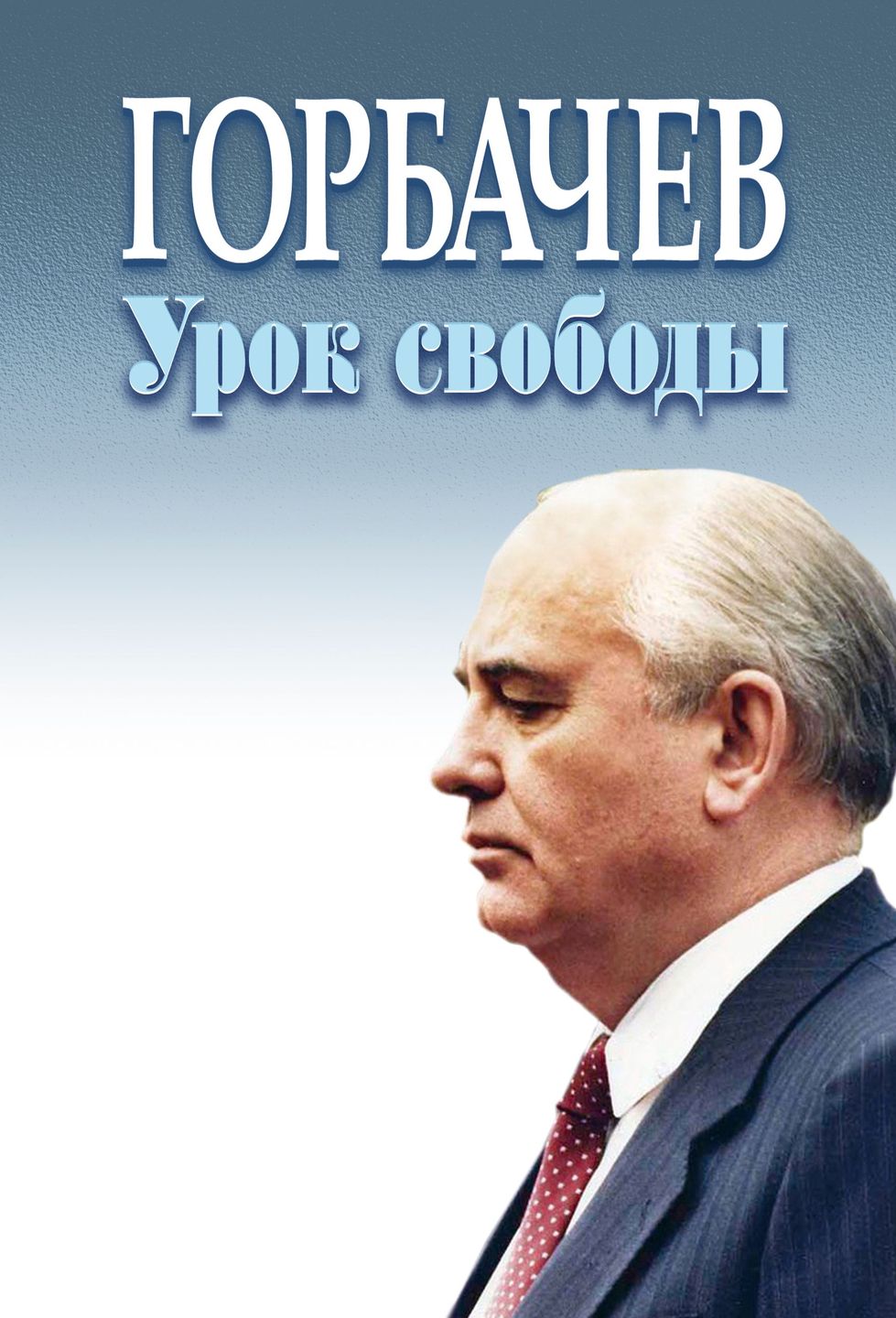Мировое большинство и АСЕАН: идейное сопряжение или напряжение?
Александр Королёв, к.полит.н, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Концепт «мирового большинства» стал одним из центральных элементов новой внешнеполитической риторики России, отражающим стремление Москвы зафиксировать происходящие на мировой арене сдвиги — переход к многополярности, возвышение глобального Юга и упразднение западной монополии на интерпретацию международных норм и институтов. В этом контексте Россия стремится не просто обозначить себя частью незападного мира, но и стать одним из ведущих центров интеллектуальной и политической артикуляции его интересов. Однако по мере популяризации «мирового большинства» в российских официальных и экспертных кругах возникает вопрос об универсальности подобного подхода и его способности находить отклик среди зарубежных партнеров.
На этом фоне показателен пример АСЕАН — объединения, которое на протяжении десятилетий выстраивает собственную модель регионального взаимодействия, основанную на принципах консенсуса, инклюзивности и нейтралитета. Как итог, сегодня, когда Россия ищет новые каналы диалога с Азией, включая ЮВА, встает дилемма: возможно ли сопряжение мобилизационного концепта «мирового большинства» с прагматичной и институционально выверенной дипломатией АСЕАН? И если да, то в какой мере подобный концепт способен вписаться в региональную политическую культуру стран Юго-Восточной Азии, не вызвав у них напряжения и отторжения.
Трудности перевода
Во многом в силу молодости концепция «мирового большинства» пока не оформилась в целостный политический конструкт с четкой институциональной логикой и ясным для целевых стран понятийным аппаратом. По сути, сейчас речь идет о символической рамке, призванной обозначить растущее влияние стран «коллективного неЗапада» и их запрос на более справедливое мировое устройство. Неопределенность и идейная расплывчатость осложняют потенциал выхода «мирового большинства» за пределы России, и это ограничение носит общий для любых потенциальных сторонников концепции характер. Однако стоит выделить четыре фундаментальные причины, по которым России, вероятно, не удастся в полной мере экспортировать концепцию в ее нынешнем виде в Юго-Восточную Азию.
Причина №1. Для Москвы «мировое большинство» — это не только инструмент символической консолидации с государствами-единомышленниками в поддержке суверенитета и культурного многообразия, но и средство противопоставления Запада остальному миру. А любая внешняя концепция, которая апеллирует к бинарному разделению мира на «большинство» и «меньшинство» и имеет ярко выраженный геополитический оттенок, вызовет настороженность в АСЕАН, поскольку будет рассматриваться через призму блокового противостояния. В этом отношении открытая поддержка концепции и позиционирование себя в качестве части «мирового большинства» в представлении АСЕАН означает отход от традиционной политики неприсоединения, балансирования и равноудаленности, и автоматическое втягивание в ненужный для себя конфликт с США и их западными союзниками. Потеря или хотя бы частичное снижение способности к проведению политики многовекторности — «красный флаг» для Ассоциации. В целом терминологический акцент на «большинстве», вероятно, будет воспринят как искусственный и слишком политизированный, что не совпадает с деликатным дипломатическим языком АСЕАН. Этими соображениями продиктовано скептическое отношение Ассоциации к таким форматам, как QUAD и AUKUS, и продвижение собственной, «обезжиренной» версии Индо-Тихоокеанского региона, которая не носит антикитайского характера.
Причина №2. Другая проблема восприятия концепции «мирового большинства» в Юго-Восточной Азии связана с институциональной идентичностью АСЕАН. Для объединения жизненно важно поддерживать «асеаноцентричность» (ASEAN Centrality): именно вокруг Ассоциации формируются ключевые диалоговые площадки — Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН, Совещание министров обороны АСЕАН+, АСЕАН+3 и др. Приверженность российской концепции несет риск девальвации субъектности и политического веса «десятки». В подобной логике объединение не будет выступать ядром, основным институциональным механизмом и инициатором повестки, а окажется одним из акторов, включенных в более широкий идеологический нарратив. Другими словами, АСЕАН будет восприниматься лишь как часть большинства, пусть и важная, где ключевые приоритеты определяются извне. Такой символический «даунгрейд» противоречит принципам и подрывает саму философию Ассоциации — стремление играть центральную роль в региональной архитектуре.
Причина №3. В силу своего географического положения, институционального дизайна и статуса асеановцам малоинтересны абстрактные геополитические конструкты, их приоритеты лежат прежде всего в области торговли, инвестиций, доступа к технологиям и инфраструктурного развития. Для них любая концепция становится значимой только тогда, когда она получает материальное наполнение или дополняется какими-то конкретными проектами с ожидаемыми выгодами. Яркий пример — поддержка государствами АСЕАН китайской концепции «Сообщества единой судьбы человечества» в виде подписания с КНР отдельного меморандума о взаимопонимании на страновом уровне. Однако у данной концепции имеется внушительный экономический «обвес» в виде инициативы «Один пояс, один путь», активными участниками которой являются члены АСЕАН. В случае с «мировым большинством» Россия пока еще не может похвастаться схожим с Китаем пакетом привлекательных экономических предложений.
Аналогичным образом обстоят дела с другой зонтичной российской концепцией — Большим евразийским партнерством (БЕП). Практически во всех ключевых стратегических документах и заявлениях российских официальных лиц в контексте БЕП Ассоциация упоминается в числе ведущих площадок и акторов наряду с ЕАЭС, ШОС, БРИКС. В восприятии России формирование широкого интеграционного контура в Евразии неразрывно связано с АСЕАН, поддержанием ее центральной роли и развитием взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии. Однако ни в одном документе Ассоциации или заявлении эта концепция и сам термин БЕП не фигурируют. Одна из основных причин — непонимание на официальном и экспертном уровнях в странах АСЕАН целеполагания этой концепции и отсутствие в восприятии асеановцев в ней практической составляющей, которая могла бы принести ощутимые экономические, стратегические и репутационные выгоды объединению.
Причина №4. АСЕАН не достигнет консенсуса внутри объединения по поводу «мирового большинства» в связи с тем, что позиционирование этой концепции прямо противоречит политике отдельных стран-членов. Так, Сингапур открыто осудил действия РФ на Украине и присоединился к антироссийским санкциям, в результате чего был внесен в перечень недружественных стран и территорий. В этой связи невозможно представить, чтобы Сингапур, находящийся под мощнейшим давлением со стороны Запада, «подписался» бы под российской концепцией и стал бы себя с ней ассоциировать. Филиппины формально не вводили ограничительные меры против России и напрямую не осудили Москву в контексте обострения украинского кризиса. Однако Манила, как, впрочем, и многие другие страны АСЕАН, регулярно голосует за «антироссийские» резолюции в Генассамблее ООН, публично поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает «использование силы для изменения границ», что можно расценить как завуалированную критику России. Не стоит забывать, что Филиппины и Таиланд являются формальными военно-политическими союзниками США и по многим чувствительным внешнеполитическим вопросам вынуждены синхронизировать свою позицию со своим старшим партнером.
Стратегический ребрендинг
Таким образом, попытки продвижения бренда «мировое большинство» в Юго-Восточную Азию вряд ли увенчаются успехом. Однако это не отменяет возможности успешного лоббирования отдельных положений концепции, которая требует серьезной адаптации под целевые страны региона.
Во-первых, для этого необходимо снизить идеологическую нагрузку, которая присутствует в российском дискурсе. Странам региона близка идея стратегической автономии, но они предпочитают формулировать ее в нейтральных категориях — равенства, инклюзивности и открытого регионализма. В этом смысле для них приемлема не конфронтационная, а интеграционная риторика, подчеркивающая взаимосвязанность, суверенитет и право на многообразие путей развития без искусственного деления мира на «большинство» и «меньшинство». При этом продвижение российской концепции в ЮВА не должно подаваться как антизападный проект или инструмент противопоставления с ним. Подобная интерпретация неизбежно вызовет напряжение в АСЕАН, где любые проявления блокового мышления воспринимаются как угроза региональной стабильности и автономии. Для стран региона важно сохранять свободу маневра между крупными центрами силы. Поэтому попытка представить идею в антагонистической логике «Россия и ее сторонники против Запада» не только снизит привлекательность концепции, но и фактически закроет возможности для ее институционального продвижения. Напротив, успех возможен в том случае, если Россия будет позиционировать рамку «мирового большинства» как позитивный, инклюзивный и кооперативный проект, ориентированный на расширение возможностей стран глобального Юга и поддержку принципов равноправного многостороннего взаимодействия.
Во-вторых, России целесообразно сохранить конструктивное ядро концепции «мирового большинства», но при этом сделать его более приемлемым для АСЕАН с точки зрения брендирования. Содержательно «мировое большинство» может быть переосмыслено в духе «партнерства устойчивого многообразия» — идеи, подчеркивающей не численное превосходство, а ценность разнообразия и равноправного взаимодействия. В такой интерпретации Россия предстает не как инициатор идеологического противостояния с Западом, а как один из акторов, содействующих устойчивому развитию, технологическому обмену и взаимной связанности евразийского и Индо-Тихоокеанского векторов во внешней политике сторон. В дальнейшем эта идейная рамка могла бы быть интегрирована в российско-асеановские документы, включая Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства, Стратегическую программу сотрудничества и совместные заявления.
В-третьих, необходима прагматизация российских идей. Без практического наполнения даже самые амбициозные проекты рискуют остаться лишь декларациями, не находящими отклика в политике АСЕАН. Наиболее перспективными направлениями практической реализации идей «мирового большинства» в Юго-Восточной Азии могут стать оборонное сотрудничество, энергетика и аграрный сектор. В сфере обороны, где Россия традиционно занимает прочные позиции в регионе, Москва на протяжении десятилетий выступала одним из ведущих поставщиков вооружений для Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и ряда других стран региона. Встраивание в этот контекст идеи технологического суверенитета позволило бы укрепить образ России как партнера, готового делиться технологиями и не навязывать политических условий, что особенно важно для государств АСЕАН, ревностно охраняющих свою независимость от крупных держав.
Энергетическое сотрудничество также представляет собой ключевое направление, где Россия способна предложить конкурентные решения — от поставок углеводородов и развития энергетической инфраструктуры до реализации совместных проектов в сфере атомной и зеленой энергетики. Такая повестка может стать основой для выстраивания долгосрочных взаимовыгодных связей, не сопряженных с жесткими политическими обязательствами и соответствующих принципу открытого регионализма, который разделяют страны АСЕАН.
Не менее значимыми представляются сотрудничество в аграрном секторе и обеспечение продовольственной безопасности — темы, имеющие прямое отношение к устойчивому развитию региона. Россия уже играет роль одного из крупных поставщиков зерна и удобрений, что особенно важно для стран Юго-Восточной Азии с учетом растущего населения и высокой зависимости от внешних рынков. Укрепление таких связей способно придать концепции «мирового большинства» в ее «кастомизированной» под ЮВА версии конкретное экономическое измерение и превратить ее из идеи в инструмент практической кооперации.
РСМД. 21.10.2025