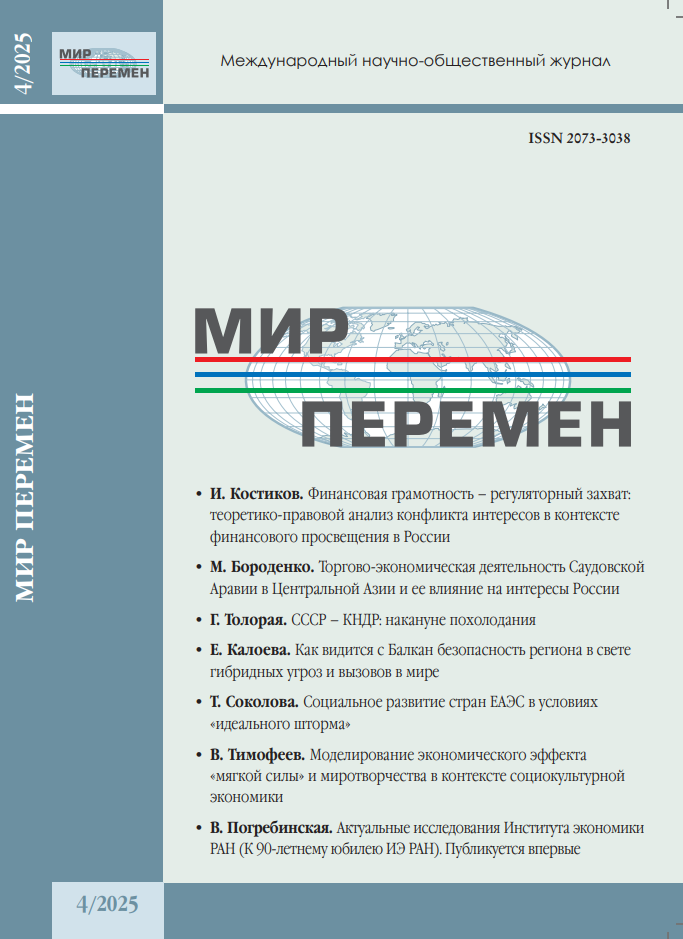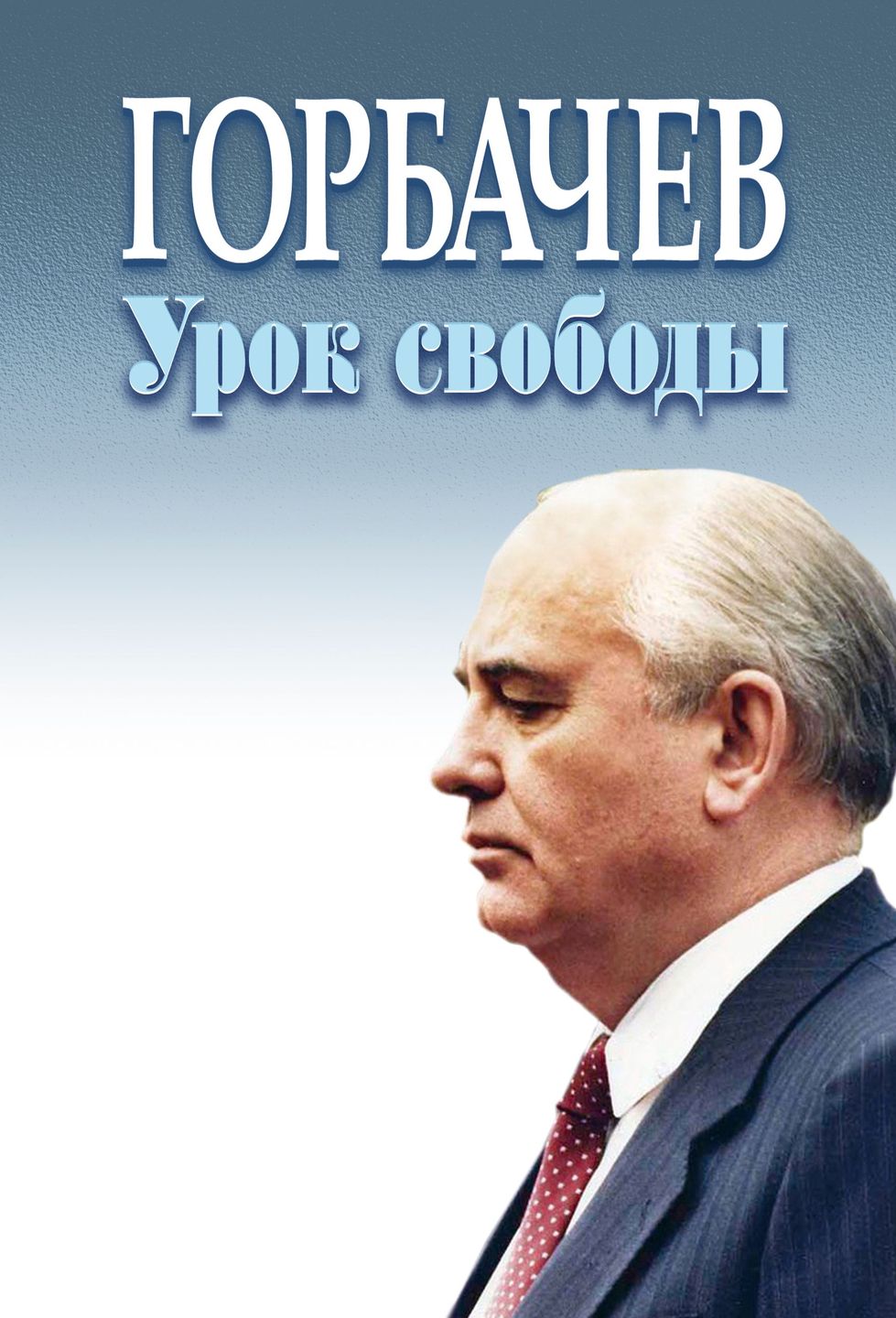Кризис за кризисом: умирает ли международная торговля
Дмитрий Мигунов
За последние пять лет мировая торговля претерпела кардинальную трансформацию под влиянием серии экономических и геополитических потрясений. От пандемии COVID-19 и крупнейшего с 2009 года спада экспорта до вооруженных конфликтов и новой волны протекционизма — все эти факторы привели к существенному изменению как объемов, так и направлений международных торговых потоков, что свидетельствует о долгосрочном характере происходящей «перенастройки глобальной карты». Произойдет ли восстановление к прежним порядкам, как поменялась российская внешняя торговля и возможно ли формирование новых экономических блоков, обсуждалось на вебинаре рейтингового агентства «Эксперт РА».
Бесконечный кризис
Как отмечается в докладе агентства, одним из самых заметных последствий пандемии начиная с 2020 года стало обострение логистических проблем и разрыв глобальных цепочек поставок. Нарушения, вызванные сначала санитарными ограничениями в крупных портах (например, в Шанхае и Лос-Анджелесе), а затем техногенными и природными катастрофами (авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале в 2021 году, засуха в Панамском канале в 2023–2024 годах) и геополитическим кризисом в Красном море (2023–2025 годы), привели к росту волатильности ставок фрахта и вынужденному удлинению маршрутов, в частности, через мыс Доброй Надежды. Геополитические факторы также спровоцировали закрытие воздушного пространства и снижение контейнерного трафика в ряд регионов, что, в свою очередь, активизировало развитие альтернативных транспортных коридоров, например, Среднего коридора в обход России.
В торговле товарами после падения в 2020 году наблюдался бурный восстановительный рост в 2021–2022 годах, вызванный снятием ограничений и отложенным спросом. Однако уже в 2023–2024 годах темпы роста замедлились на фоне продолжающегося усиления санкционного давления и новой протекционистской политики, хотя в начале 2025 года вновь отмечалось небольшое оживление. Параллельно с этим наметился устойчивый тренд на рост электронной коммерции, объемы которой в ритейле росли в три раза быстрее, чем объемы очной торговли. Сектор услуг, пострадавший от пандемии сильнее, в 2020 году показал максимальное падение, но восстанавливался в 2021–2022 годах более высокими темпами, чем товарная торговля. Важным изменением стало повышение доли онлайн-предоставляемых услуг.
Геополитическая напряженность после начала СВО в 2022 году стала катализатором масштабной переориентации торговых потоков, особенно в сфере энергетики и сырья. В результате санкций страны Евросоюза резко сократили импорт топлива из России, что привело к росту доли США, Катара и других стран в их энергобалансе. Россия, в свою очередь, перенаправила экспорт минеральных ресурсов и металлов, многократно увеличив поставки в Китай, Индию и Турцию.
Аналогичная картина наблюдается и в торговле электроникой: доля Китая в российском импорте электронных товаров резко выросла, тогда как доля стран ЕС практически сошла на нет. В сельском хозяйстве, несмотря на сохранение ключевых экспортеров (США, Россия, Украина), также происходили изменения в направлениях: США снизили экспорт зерновых в Китай, а российские поставки зерна переживали рост в 2022–2023 годах и падение в 2024-м.
Отдельного внимания заслуживает новая протекционистская политика США, начавшаяся в 2025 году с введением универсального тарифа в 10% и многочисленных дополнительных пошлин, доведя средний применяемый импортный тариф до 19%. Это привело к новому витку торговой войны с Китаем, где пошлины достигли пиковых значений, а также спровоцировало ответные меры со стороны других крупных экономик, включая ЕС и Канаду. Ожидается, что такая фрагментация торговли негативно скажется на развивающихся странах, замедляя их индустриализацию, и вынудит крупных экспортеров, столкнувшихся с высокими тарифами, активно диверсифицировать свои торговые направления. Таким образом, мировая торговая система входит в эпоху повышенной волатильности, долгосрочных логистических изменений и формирования новых торговых блоков.
«Запутываем следы, чтобы что-то продать»
Если говорить о российских торговых сношениях, то, как отметил начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков, «Эйлер Аналитические Технологии Петр Гришин», дело не только в физическом изменении экспортно-импортных потоков, но и в том, что мы потеряли всякую уверенность в том, что статистика внешней торговли что-то означает.
— Мы живем в стране, которая по вынужденным причинам — чемпион во внешнеторговой эквилибристике (что это за товар, какая у него страна происхождения, куда и откуда он едет и т.д.). Мы уже года три пытаемся восстановить реальную картину торговой статистики — в России она сейчас закрыта — зеркальным образом через данные стран-партнеров. Пытаемся из новостей, из движения танкеров, из других источников отследить, кто является реальным покупателем наших товаров. Получаются очень разные картины в зависимости от того, на каком слое информации ты останавливаешься.
По его словам, важнейшее отличие нынешнего положения дел от того, что было до 2022 года — раньше внешняя торговля вообще и наша в частности очень хорошо считалась. К примеру, экономика экспорта нефти высчитывалась с точностью до трех центов.
— Всё это произошло осознанно — любой нормальный человек в случае выбора «торговать, но непонятно» и «не торговать вообще» сделает тот же выбор, что сделали и мы. В мореходстве используется «удобный флаг», так же и в торговле будет возникать география, которая к нам не имеет никакого отношения. Страны, которые очевидно не смогут потребить даже малую долю того, что мы им продали. Это неизбежная реакция на санкционное давление — мы запутываем следы, чтобы что-то продать, и продать неплохо.
Стоит отметить, что похожие процессы идут в торговле между третьими странами. Разнообразные «прокладки» начинают выполнять всё большие функции — на фоне высоких тарифов их использование становится оправданным. Например, в американо-китайской торговле.
Валютный рынок опустел
Гришин также отметил, что запутывание цепочек поставок ведет к росту оборотного капитала, а также потере значимости валютного рынка и текущих валютных курсов.
— Раньше компаниям давали торговые кредиты и они могли платить после получения товара. Сейчас всё это в прошлом. Неважно, как ты платишь: по-старому, напрямую, или через платежных агентов — деньги всегда вперед. Нужно сначала заплатить, и только потом приедет товар. Из этого следует, что связь между внешней торговлей и валютным курсом стала совершенно призрачной. Сейчас сделка, даже не по подсанкционным товарам, занимает много месяцев — я должен купить валюту в октябре, чтобы ко мне что-то приехало в марте. Раньше мы имели понятный рынок: рубль экспорта означал рубль проданной валюты, рубль импорта — купленной валюты. Там, где работают торговые агенты — это по факту бартер, который обессмысливает работу валютного рынка, тогда как курс устанавливается по кругу операций в десять раз меньше, чем тот, что нужно учитывать. По нашим оценкам, треть импорта сейчас поступает за деньги, а остальное идет через торговых агентов, — констатирует аналитик.
Разрыва связей не будет
Интересно, что несмотря на все потрясения, физический объем товарных потоков не слишком сократился.
— Сейчас пошлины на китайский импорт в США — около 50%, — объяснила старший научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Бирюкова. — Такого за последние десятилетия не было, это аномалия. Это явление будет сокращать объемы китайских торговых потоков в США. Самой сильной ответной мерой со стороны Китая является применение мер экспортного контроля, в частности, по редкоземельным металлам. Для США всё это будет достаточно чувствительно. Но если смотреть статистику по экспорту Китая, в том числе и свежую, за второй квартал этого года, то объемы поставок не просели. Упал экспорт в США, но вырос экспорт в азиатские страны. Не случилось провала и мировой торговли, несмотря на тарифы.
Бирюкова считает, что полного разрыва связей в торговле между крупнейшими державами не будет.
— Будут попытки обособиться, сформировать свои торговые блоки, но крупнейшие экономики мира слишком связаны между собой — и экономически, и инвестиционно, и даже технологически.
По ее словам, сложившаяся ситуация с китайско-американской торговой войной влечет риски для России и других стран ЕАЭС.
— В целом Китай сейчас обеспечивает треть торговли блока. Представьте: для Китая сужается рынок, нужно сбывать куда-то эту продукцию, а здесь под рукой Россия. Поэтому если мы хотим сохранить свою промышленность, нам нужно выстроить комплексную импортную политику — там, где есть риски для национального производства, нужно импорт ограничивать. Речь не идет о том, что мы неконкурентоспособны: сейчас в сравнении с китайской промышленностью неконкурентоспособны абсолютно все, учитывая масштабы господдержки индустрии со стороны правительства КНР.
Бирюкова отмечает, что для формирования экономических блоков одних торговых соглашений мало, должна произойти пересборка промышленно-технологических цепочек.
— Этого достичь сложно. Многие развитые страны, заявлявшие о создании «устойчивых цепей поставок» (подразумевая страны, с которыми они дружат), имеют похожие экспортные корзины. Сомнительно, что такая дружба приведет к развитию в промышленном срезе.
Пациент скорее мертв
Эксперт также отметила значительную деградацию роли ВТО, хотя организация продолжает существовать. В ситуации глобальных торговых конфликтов должна была выполнять роль арбитра, но оказалась в новой обстановке бесполезной: «пациент скорее мертв, чем жив». Ее основной функцией стало предоставление площадки для консультаций и переговоров на уровне профессионалов.
— Большинство ее функций сейчас нежизнеспособны. Судебная не работает, да и политическая тоже. Уровень значимости организации просел со времен первого срока Трампа. Они тогда разве что не вышли из нее — вот как можно охарактеризовать участие США в ВТО в те периоды. Что остается? Остаются мониторинговые и в какой-то степени переговорные функции. Де-факто переговоры все-таки идут в клубных форматах. И для многих развивающихся стран это интересно, потому что там рождаются разработки в области торговой политики, которые потом можно видеть на региональном уровне, — заключила Ольга Бирюкова.
Известия. 16.10.2025