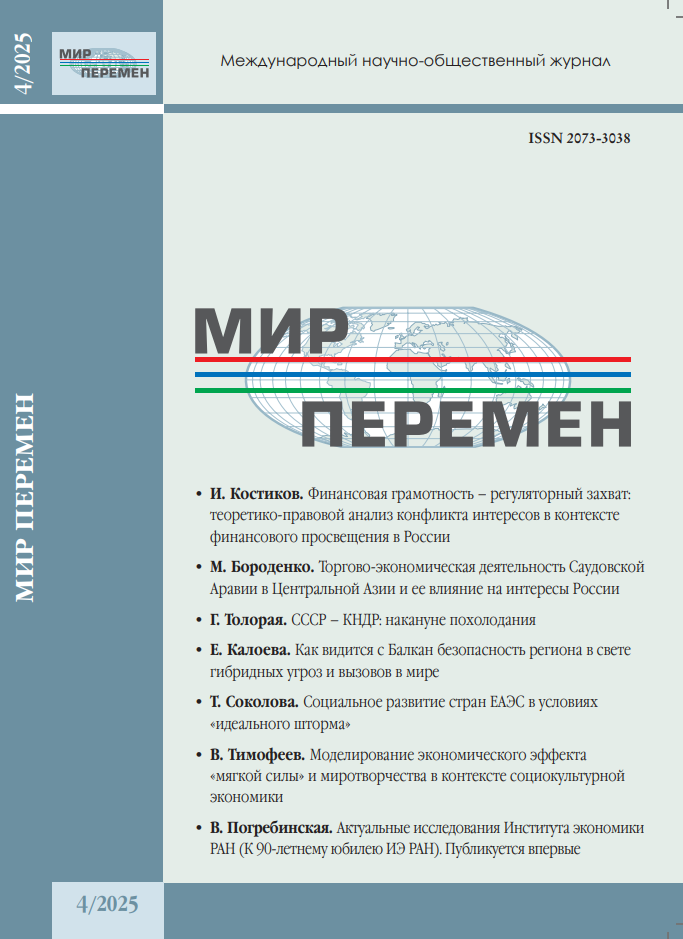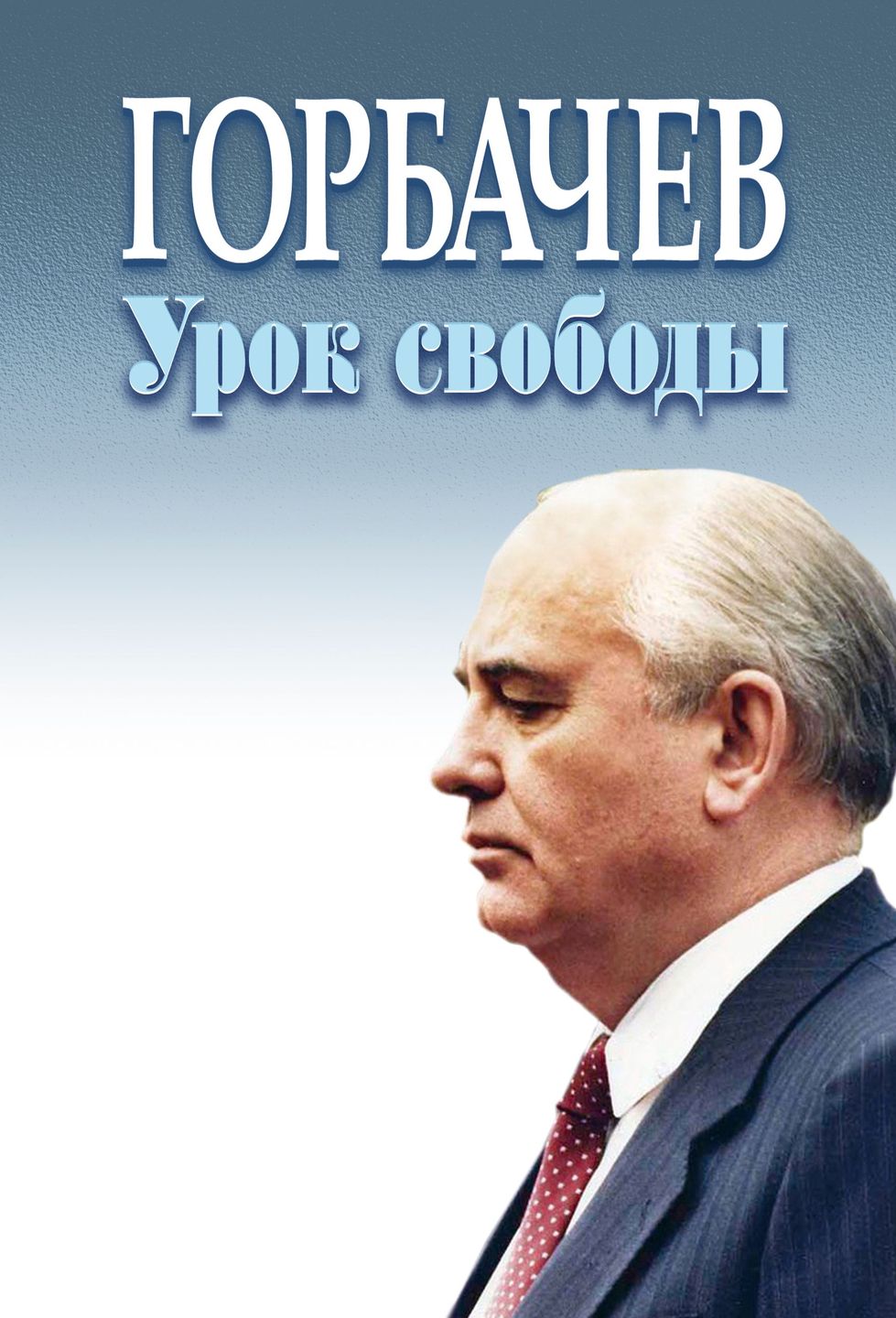Михаил Головнин: цифрового рубля пока еще никто не видел
Россия стойко переносит все санкции, которые на нее наложили западные партнеры. Ранее наша страна преодолела ряд экономических кризисов и теперь снова вынуждена искать новые пути развития на фоне углубляющейся экономической фрагментации. Почему Российская Федерация до сих пор является значимым экономическим партнером, и как ей удалось выстоять под давлением санкций, а также о БРИКС и криптовалютах рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Михаил Головнин.
– Россия стойко перенесла все санкции и экономические ограничения, наложенные на нее с 2014 года?
– Давайте посмотрим на цифры. Если мы говорим о недавних событиях, то в центре нашего внимания будут находиться беспрецедентные санкции, введенные в 2022 году. Здесь стоит обратить внимание на темпы роста экономики за 2022-2024 годы, то есть за три полных года. Мы видим, что в 2022 году был спад, но в среднем за 2022-2024 годы реальный валовый внутренний продукт (ВВП) рос на 2,3% в год. Давайте посмотрим, что у нас было до этого. Если вспомнить первый кризис XXI века – 2008-2009 годы, то наша экономика после него (за 2008-2013 годы) росла на 2% в год. Дальше интереснее: 2014-2019 годы – период после введения серьезных санкций и резкого спада цен на нефть. В этот период наша экономика росла на 0,9% в год. Во время коронавируса в 2020 году и последующего восстановления экономика выросла в среднем за год на 1,5%. Даже простое сопоставление данных показывает, что среди всех кризисов мы пока наилучшим образом справились с шоком 2022 года. Конечно, это не значит, что наши ожидания должны быть сугубо оптимистичными, мы уже видим замедление экономики. В первом полугодии 2025 года, по предварительной оценке, реальный ВВП вырос всего на 1,2%. При этом нужно помнить, что экономика всегда находится под действием внешних факторов, формирующих серьезные риски.
Россия – крупный экспортер на отдельных мировых товарных рынках, поэтому в нашем институте для характеристики воздействия на нее западных санкций был предложен новый термин – "ловушка большой страны". Объяснить его можно так: введение санкций в отношении большой страны, занимающей ключевые позиции на отдельных мировых товарных рынках (для России это нефть, газ, зерно, удобрения и ряд других товаров); приводят к росту цен на эти важнейшие экономические ресурсы во всем мире. Одновременно с этим страна, на которую наложили санкции, приспосабливается к новым условиям и находит пути обхода ограничений и этих санкций. В этом ей помогают и другие страны, поскольку полный уход такой страны с мировых товарных рынков может привести к катастрофическим последствиям. В свою очередь государства-санкционеры меняют политику санкций и начинают перестраивать свою экономику из-за изменения конъюнктуры рынка. Поэтому санкции, наложенные на такую страну, как Россия, приводят к переменам на всем мировом рынке.
– Россия зависима от экспорта природных ресурсов?
– Мы видим, что доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли. Рост ВВП, о котором я говорил, был вызван внутренними факторами – увеличением потребления и инвестиций внутри страны. Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов, – сработала активная внутренняя экономическая политика. Безусловно российский бюджет зависит от поступлений от экспорта топливно-энергетических товаров, однако и эта зависимость после 2022 года постепенно снижалась. Можно констатировать факт того, что доля энергоресурсов в экспорте выросла, однако одновременно снизилось влияние экспорта на экономику страны.
– Сегодня существует финансовая монополия западных стран?
– Мы можем не только говорить об этой монополии, но и наблюдать ее. Россия серьезно почувствовала последствия введенных западными странами санкций на бытовом уровне. Приведу примеры: это и прекращение работы российских банковских карт за рубежом, и фактическое замораживание инвестиций в зарубежные ценные бумаги. Произошло это в результате фактической монополии западных стран на мировую финансовую инфраструктуру (платежно-расчетные системы, депозитарно-клиринговое обслуживание). Санкции в отношении России продемонстрировали пример того, как западные страны могут использовать свое монополистическое положение для оказания давления на недружественные им страны. Это заставило ряд государств, например, Китай, задуматься над тем, как преодолеть сложившуюся монополию западных стран в области финансовой инфраструктуры. Поэтому многие страны сегодня стараются выстраивать собственные независимые платежно-расчетные системы, неподконтрольные влиянию Запада, ревностно относящегося к своему доминированию в мире. Отсюда спрос на идеи развития расчетов в национальных валютах.
– Что сейчас происходит с российским рублем?
– Валютный рынок России сейчас представляет собой очень сложное явление. У нас есть рыночные механизмы, которые работают, но сам рынок очень фрагментирован. Если раньше у нас были взаимосвязаны биржевой и межбанковский рынки, то сейчас из-за введения санкций в отношении Московской биржи у нас возникли отдельные рынки, на которых разный курс валюты, иначе говоря, появились значительные спреды (spread – разница, разброс). Банально это можно увидеть, сравнивая официальный курс рубля и фактический в обменном пункте. Тем не менее благодаря рыночным механизмам общие тенденции укрепления или падения курса рубля синхронны на разных сегментах рынка.
В начале 2025 года мы видели достаточно удивительный на первый взгляд процесс, связанный с укреплением курса рубля, хотя, казалось бы, внешние факторы этому не способствовали. Это можно объяснить политикой высоких процентных ставок, которая действовала в этот период. Хотя в явном виде приток капитала в страну перекрыт санкционными ограничениями, какие-то каналы для его поступления, по всей видимости, возникают. Также можно сказать, что с 2022 года валюта находится в состоянии постоянных "качелей", степень колебания ее курса (волатильность) выросла, на наших глазах курс рубля несколько раз падал, а потом поднимался.
Можно констатировать, что сначала негативные последствия от внешнеторговой политики администрации (президента США – ред.) Дональда Трампа сказались на мировой экономике. В свою очередь Россия уже частично смогла перестроиться: успела перевести внешнюю торговлю рядом товаров на российскую валюту, то есть если кто-то хочет купить российские товары, то он должен покупать нашу валюту, что также способствует росту курса рубля. Центральный банк РФ вмешивается в динамику курса российской валюты, стремясь хотя бы частично ее сгладить. Кроме того, нужно отметить очень важный тезис: в 2022 года впервые в XXI веке Россией были введены новые валютные ограничения, также способствующие регулированию валютного курса рубля.
– Развитие цифрового рубля улучшит экономику России?
– Цифрового рубля пока еще почти никто не видел, особенно простые граждане. Центральный банк начал его запуск, ряд банков присоединились к этой программе, однако пока это достаточно узкий круг. Цифровой рубль в заявленном пока формате нужен для внутренней розничной торговли – обслуживания платежей обычных физических лиц. По плану это сделано для удобства и комфорта граждан. Обычно, когда вспоминают разработку цифрового рубля, то говорят об опыте Китая и про введение цифрового юаня, хотя КНР не ускоряет процесс массового введения цифрового юаня, пока лишь небольшая часть денег, обращающихся в стране, представлена им. Это объясняется тем, что нововведение цифровой валюты сопряжено с серьезными рисками для традиционной банковской системы.
Цифровой рубль – это одна из форм рубля, соответственно, у нас раньше рубль был в наличной форме или в безналичной (в виде средств на счетах в банках). Соответственно, банки ими пользовались, платили по счетам проценты, они использовали эти средства для выдачи кредитов. Если мы введем цифровой рубль в такой системе, то часть пассивов у банков исчезнет. Таким образом, цифровой рубль не только заменит наличные деньги, но и лишит частные банки базы для их деятельности, тех доходов, которые они получали, например, от осуществления платежей.
Еще стоит сказать, что в результате введения цифрового рубля деньги потеряют свою анонимность. Каждая денежная операция будет четко отслеживаться. Тем самым исчезает традиционное преимущество наличных денег. С этой точки зрения обычным гражданам не совсем понятно, зачем вводится цифровой рубль, они чувствуют неопределенность, что не очень хорошо в нынешних условиях, когда уровень неопределенности и так существенно повысился.
Вместе с тем есть действительно очень важная сторона цифровых денег в современных условиях для России – возможность их использования в международных валютных операциях. Если ряд стран вводит цифровые валюты центральных банков (подобно нашему цифровому рублю), то они могут осуществлять взаимные международные расчеты без использования существующей монопольной финансовой инфраструктуры, напрямую. Но для этого требуется сопряжение платформ цифровых валют. Таким образом страны в международных расчетах смогут избавиться от ограничений и издержек, связанных с санкциями, усилить собственную экономическую безопасность. Раньше страны не стремились осуществлять расчеты в национальных валютах как раз из-за высокой стоимости таких операций, дешевле было использовать существующие схемы. Цифровые валюты могут помочь им снизить эти издержки. Однако, повторюсь, требуется, чтобы цифровые валюты ввели несколько государств-экономических партнеров и согласовали между собой их инфраструктуру.
– Почему бы тогда всем странам не использовать криптовалюту? Какие есть плюсы и минусы криптовалют?
– Криптовалюта изначально создавалась как валюта международная, для осуществления сделок между людьми из разных стран. Она предусматривает анонимность и возможность использования для обхода имеющихся ограничений, например, санкций. С другой стороны, криптовалюта вызывает опасения у пользователей из-за отсутствия формального обеспечения. Рубль, например, обеспечен обязательствами Банка России, а криптовалюта не имеет никакого обеспечения. Это принципиальное отличие.
В данном контексте нужно вспомнить принятый недавно закон Трампа о стейблкойнах в США, обеспеченных долларами. Этот закон призван ввести регулирование в сферу цифровых денег и упорядочить их привязку к реальным валютам. Одновременно данные меры усилят позиции доллара США в мировой валютной системе. То есть криптовалюты будут не столько составлять конкуренцию доллару, сколько способствовать сохранению его доминирования.
– Разве не теряются анонимность и свобода граждан в ситуации вмешательства государства в сферу криптовалют?
– Совершенно верно. Традиционные криптовалюты, вроде биткойна, свободны от контроля со стороны государства, контроль за обращением стейблкойнов пока ограничен, а вот цифровые валюты центральных банков могут быть "окрашены". То есть можно контролировать их использование только в определенных операциях для совершения конкретных сделок. Например, пособия, которые выплачиваются гражданам в виде цифровых денег, могут тратиться только на определенные категории услуг и товаров. Поэтому в таком случае исчезает один из главных принципов денег – всеобщая обмениваемость. Возникают ограничения на возможное обращение денег, а криптовалюта в этом смысле ближе к наличным деньгам, она сохраняет многие свойства традиционных денег. Но при этом криптовалюта не признается в качестве полноценных денег большинством стран, что существенно ограничивает сферу ее обращения.
– Государства, используя цифровые валюты, могут стремиться к созданию блоковой экономики?
– Пока рано говорить об этом. Коллективная валюта в первую очередь – это долгая работа нескольких государств, особенно, когда мы говорим об отказе от национальных валют. Мы можем вспомнить, что евро формировалось европейскими государствами на протяжении нескольких десятилетий, до его появления прошло более 40 лет европейской интеграции. Это сейчас у европейских стран взаимный торговый оборот составляет больше 50%, раньше такого не было. Сегодня, например, страны БРИКС еще далеки от уровня интеграции европейских государств. Поэтому о введении классической наднациональной валюты речи пока не идет.
Обсуждается возможность введения расчетной единицы для стран БРИКС, у Европы, например, это была валюта ECU. Обычно говорят о ней, когда думают, что страны БРИКС продолжат углубленную интеграцию. Теоретически она может облегчить взаимные экономические связи, но только при условии совместного регулирования курсов валют. А страны БРИКС к этому явно не готовы, хотя отдельные экономические механизмы для этого есть – пул условных валютных резервов, представляющий собой систему соглашений swap – обмена валютой между центральными банками стран объединения. Механизм есть, но в реальности он пока не применялся, только тестировался.
Еще один вариант формирования независимой системы расчетов стран БРИКС – создание международной криптовалюты в его рамках на основе стейблкойна. Как правило, речь идет о возможном товарном обеспечении стейблкойнов. С этим проблем может и не быть, а вот кто будет эмитентом этих стейблкойнов – большой вопрос. Эмитентом должна стать наднациональная структура и в то же время финансовый институт – в качестве такого института предлагался Новый банк развития БРИКС. Однако пока у него нет такого функционала. В целом, на мой взгляд, пока рано говорить о реальных тенденциях создания единой валюты для БРИКС даже для осуществления взаимных расчетов.
– Страны БРИКС могут создать блоковую экономику на фоне углубляющейся фрагментации?
– Сначала нужно разобраться в том, что такое фрагментация в современном мире. Фрагментация рассматривается как некоторая альтернатива глобализации, активно развивавшейся с рубежа 1980-90-х годов до 2007 года. Мировой экономический кризис 2007-2009 годов стал некоторым спусковым крючком, который подтолкнул мировую экономику к фрагментации, так как он ярко продемонстрировал, что глобализация сопряжена не только с выгодами, но и серьезными рисками. Однако сразу после этого кризиса фрагментация не наступила, она началась, на мой взгляд, десятилетием позже, когда разразилась торговая война между США и Китаем в 2018 году, в первый период президентства Трампа. Именно после этого мы видим, что резко начинают расти торговые и в целом протекционистские барьеры. Потом в 2020 году произошел кризис COVID-19, вызвавший новые проблемы в мировой экономике, а в 2022 году санкции в отношении России показали, что экономические ограничения растут как грибы после дождя. Наконец 2025 год – второй срок президентства Трампа и введение более высоких торговых пошлин для широкого круга стран, что безусловно углубило экономическую и политическую фрагментации. Действия президента США привели к тому, что многие страны столкнулись с ростом пока торговых барьеров. Изначально были заявлены крайне высокие тарифы, и царила неопределенность. Однако впоследствии стали постепенно заключаться сделки между США и Мексикой, Японией, Великобританией. Недавно была объявлена сделка с Европейским союзом: США понизили торговые тарифы с 30% до 15%, однако все равно это остается рекордно высоким уровнем тарифов за последние десятилетия. Между тем, ЕС будет беспошлинно поставлять свои товары в Соединенные Штаты Америки, также он обязуется инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США и покупать у них энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов в течение трех будущих лет. Эта главная особенность текущего этапа фрагментации – барьеры возникают внутри блоков, хотя раньше США и ЕС всегда воспринимались чем-то единым.
– Какой прогноз вы можете дать насчет дальнейшего развития фрагментации?
– Я выделяю четыре сценария развития фрагментации. Первый – самый жесткий. Он будет напоминать то, что произошло примерно 100 лет назад во времена Великой депрессии, когда каждая страна выступала только за себя и активно вводила пошлины в отношении других стран. Повсеместно практиковалась девальвация валют – она носила взаимный характер и получила название в истории как политика "разори своего соседа". Это был настоящий экономический национализм. В этом направлении, кстати, идет политика, которую сейчас проводят США.
Второй сценарий развития событий – это блоковое противостояние, он встречается чаще всего в научной литературе. Он предполагает наличие двух блоков, сформированных по геополитическим соображениям. Обычно выделяют США, Европу и их союзников с одной стороны, Китай, Россию и их союзников – с другой. Сложность такого сценария заключается в том, что разрушаются взаимовыгодные экономические связи между блоками, но крепнут связи внутри блоков. Для маленьких стран такой вариант очень неутешительный – им приходится выбирать между разными блоками, из-за чего они теряют возможность выступать в качестве "мостов" между двумя блоками, проводя многовекторную политику. Пока мы не видим серьезной блоковой конфронтации, и активно действуют "страны-мосты", позволяющие обходить санкции с помощью параллельного или обходного импорта. Они фактически являются связующим звеном между блоками.
Третий вариант заключается в появлении множества трансрегиональных объединений, которые введут друг с другом активную торговлю. Например, китайский проект под названием "Один пояс и один путь", Транстихоокеанское партнерство, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство и другие. В эти объединения входят страны их разных блоков, и появляется гораздо больше возможностей для налаживания "мостов" между ними.
Последний вариант, по сути дела, предполагает сохранение активных взаимных экономических связей и продолжение развития глобализации при одновременном усилении влияния новых центров – прежде всего Китая, а также других стран и регионов. Может продолжаться введение санкций и ограничений против конкретных стран, но это не будет вызывать разрушительные последствия для мировой экономики. Сейчас движение по этому сценарию представляется мне все менее вероятным. Наиболее вероятной, по всей видимости, будет какая-то комбинация второго и третьего сценариев.
– В современном мире растет роль государства в экономике? Выгодно ли развивать плановую экономику?
– Если мы будем говорить о роли государства в экономике, то мы всегда увидим, что это такой волнообразный, циклический процесс. Например, после Великой депрессии произошло усиление роли государства. Мы знаем, что депрессия возникла на фоне достаточно дерегулированной экономики, собственно говоря, именно в процессе преодоления Великой депрессии появилась идея активного регулирования экономики со стороны государства. Именно в тот период происходило то самое усиление роли государства, под знаком которого прошла уже оставшаяся часть XX века, так, в 1940-60-е годы роль государства существенно усилилась. Потом были тэтчеризм в Великобритании и рейганомика в США. Произошло ослабление роли государства, его прямого вмешательства в экономику. К началу 1990-х и 2000-х годов преобладала идея либеральной экономики, когда во главу угла ставился свободный рынок, роль государства снижалась, происходило свободное движение товаров и услуг, а также капитала через границы.
Водоразделом как раз стал кризис 2007-2009 годов, после которого мы наблюдаем объективное усиление роли государства в самых разных странах. В конечном итоге это привело к новой индустриализации, когда страны стали пытаться снова проводить промышленную политику, то есть то, что было под запретом, как термин, в предыдущий период. Подобное усиление роли государства продолжается и сегодня. Оно стало основой распространения протекционизма в мировой экономике.
– Усилие влияния государства в экономике помогает странам развиваться?
– Экономические модели разных стран слишком отличаются, поэтому нельзя говорить об универсальной формуле, по которой усиление регулирования может принести пользу государствам. Прямое копирование моделей одних стран другими может привести к негативным результатам. Классический пример, который я люблю приводить, – политика "количественного смягчения", которая проводилась в развитых странах после мирового кризиса 2007-2009 годов, когда там наращивалась денежная масса при нулевых ставках процента. Это действовало в развитых странах, но это не работало в странах с формирующимися рынками. И, наоборот, значительное усиление роли государства как собственника, как регулятора, намного эффективнее в странах с формирующимися рынками.
Россия относится ко второй группе стран, к странам с формирующимися рынками. Поэтому, когда мы выстраиваем свою модель государственного регулирования, нам надо ориентироваться не на западные страны, а на своих соседей, в том числе по БРИКС или по G20.
Мы видим, что возможности государства существенно усиливаются с помощью современных технологий, страны могут эффективнее регулировать экономику. Опыт России показывает, что цифровые технологии усилили возможности государства – так, например, возросла собираемость налогов, благодаря оцифровке налоговой службы России.
Всегда важно понимать, что любая крайность приводит к негативным результатам. Об этом нам говорит опыт Великой депрессии, когда была крайность дерегулирования, но и также крайность чрезмерного планирования, которая привела в СССР к негативным результатам. Поэтому мы в Институте экономики РАН всегда пытаемся найти некоторую золотую середину между ролью государства в экономике и действием свободного рынка.
– Рыночная экономика до сих пор эффективнее и лучше плановой? Разве цифровизация не должна дать возможности для регулирования экономики со стороны государства?
– Основная проблема плановой экономики, из-за чего она во многом распалась, в том, что она не учитывала потребности населения. Что было основной ахиллесовой пятой плановой экономики? Это рынок потребительских товаров. Соответственно, если вдруг с помощью цифровизации мы сможем точным образом вычислять потребности населения, правда, мы знаем, что сейчас они в значительной степени формируются с помощью той же рекламы, то мы сможем найти такой баланс, при котором люди будут довольны и будут существовать в рамках плановой экономики. Но пока я не вижу для этого существенных предпосылок.
Например, ограничения времен COVID-19 по уменьшению мобильности граждан, а затем по уменьшению экономической активности, в наибольшей степени привели к экономическому спаду для стран, которые их активно вводили. В Европе как раз был наибольший ущерб в экономическом плане от коронавируса. Россия, которая в значительно более слабой форме использовала ограничения, относительно благоприятно прошла через кризис.
Ситуация с санкциями в России давала искушение закрыть или перекрыть все свободы, создать чисто централизованную модель, но именно во многом благодаря тому, что рыночные элементы остались и очень активно использовались, были налажены схемы параллельного и обходного импорта, также были налажены возможности международных расчетов. Это создало такую возможность поддержать экономику и не дало ей так существенно обрушиться в том же 2022 году. То есть на самом деле именно сочетание двух моделей дает наибольшие результаты, а вот крайности приводят как раз к негативным последствиям.
– Что ждать простым гражданам от будущего?
– Надо готовиться ко всему. Важно быть открытым к изменениям и понимать, что многие процессы происходят небыстро. Для меня позитивным сигналом стала адаптивность России к меняющимся условиям, что еще раз показывает эффективность рыночных механизмов. Это позволяет думать о том, что у нас есть большой потенциал, который реализуется в условиях рынка и при стимулирующей роли государства.
Беседовал Иван Бельков
РИА Новости. 08.09.2025