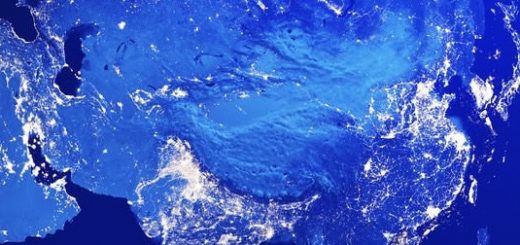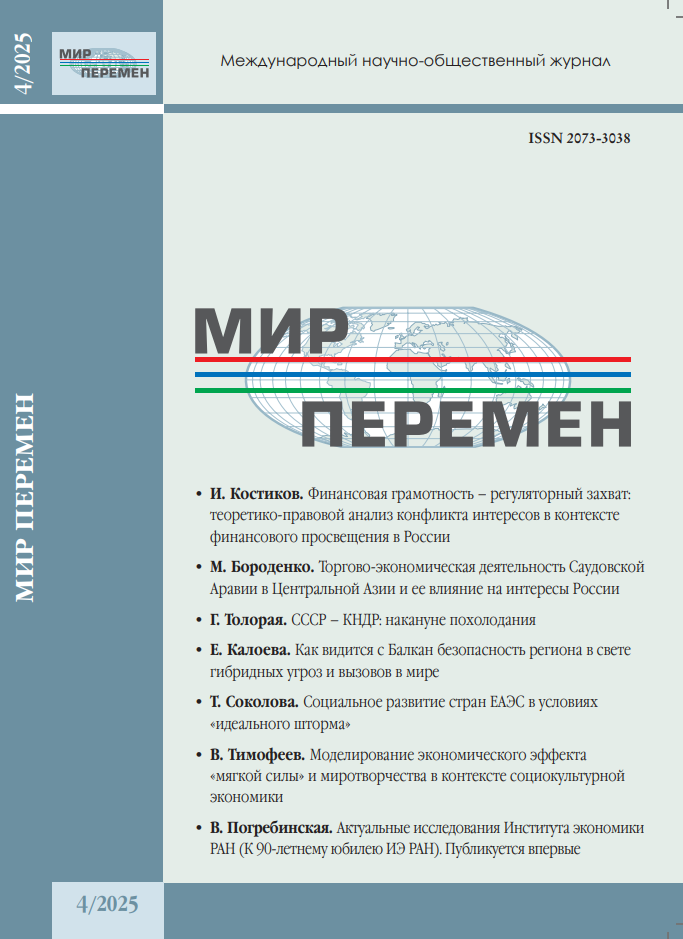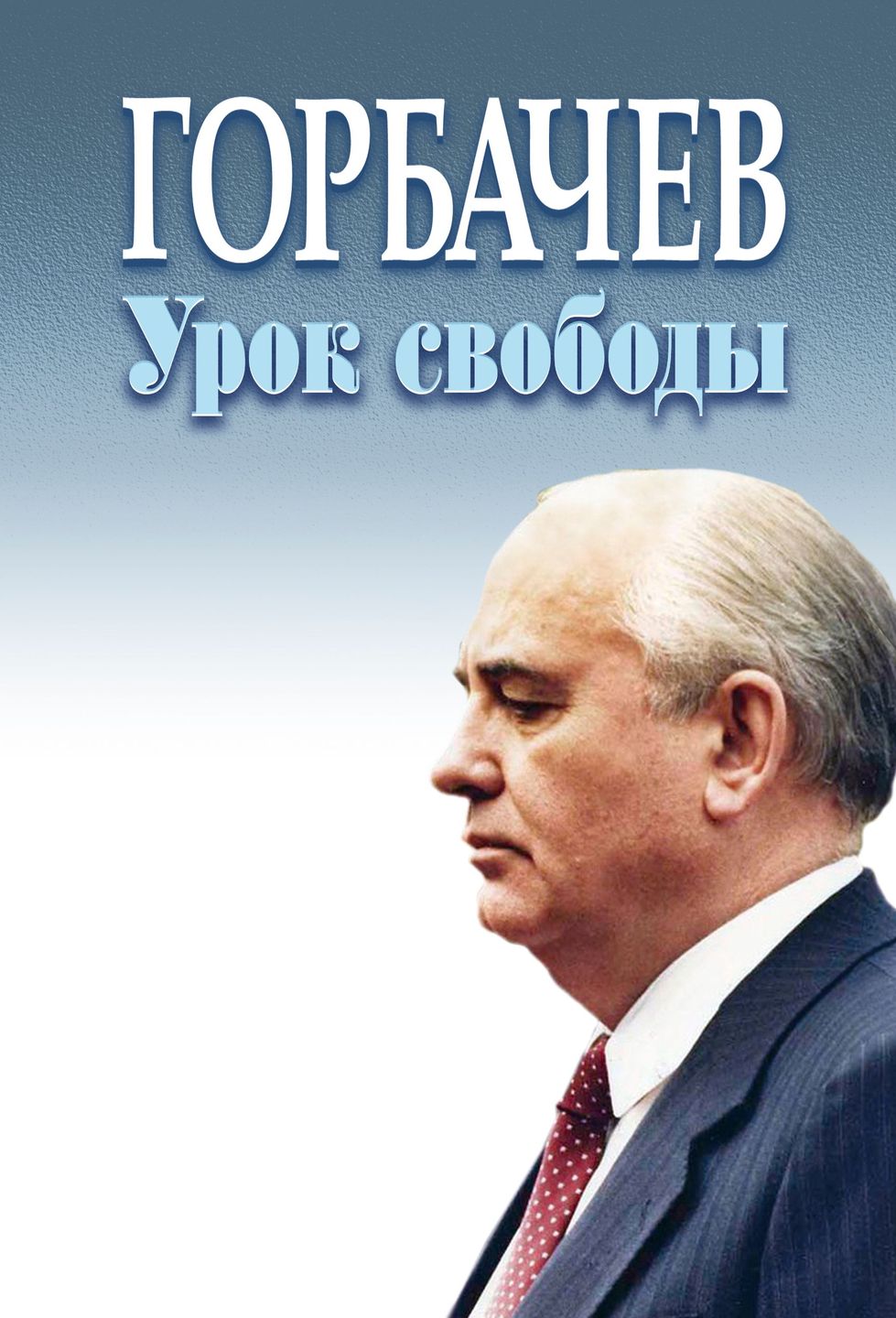В погоне за лаврами миротворца: Дональд Трамп и американская политика на Южном Кавказе
Сергей Маркедонов, к.и.н., ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика»
Противоречивые итоги вашингтонского саммита
8 августа 2025 г. в Белом доме состоялись переговоры между Дональдом Трампов, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Встрече президентов США с лидерами Азербайжана и Армении предшествовала масштабная информационная подготовка. Широко обсуждалось возможное подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Вашингтона. Интригу умело поддерживал и сам президент Соединенных Штатов. В ночь перед саммитом Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал комментарий, в котором фактически объявил о подготовке церемонии подписания мирного договора.
Однако итоги саммита оказались намного скромнее, чем ожидались. Финальное армяно-азербайджанское соглашение так и не было подписано. Министры иностранных дел двух кавказских республик лишь парафировали его. Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместную декларацию из семи пунктов, только четыре из которых содержали конкретные предложения, а не общие слова о мирном будущем для народов Азербайджана и Армении. Сами тексты парафированных документов увидели свет через три дня после вашингтонских переговоров. Министерства иностранных дел двух государств разместили их на своих официальных порталах[1].
По справедливому замечанию российского эксперта Николая Силаева, «комментаторы ожидали исторического события, будто у американского президента не каждый день заранее объявлен историческим. Единственный практический результат (пока) — парафированное соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном». Тем не менее разрыв между ожиданиями и реальностью нисколько не смутил Дональда Трампа. Подводя итоги переговоров в Вашингтоне, он заявил: «Более 35 лет Армения и Азербайджан вели ожесточенный конфликт, который принес огромные страдания обоим народам… Многие пытались найти решение… но безуспешно. Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира».
Однако ни совместная армяно-азербайджанская декларация, ни парафированный документ не дают ответы на множество вопросов, касающихся мирного урегулирования, поскольку ключевые проблемы остаются за рамками обнародованных текстов. К ним прежде всего относится требование официального Баку по изменению Конституции Армении. Азербайджанская сторона настаивает на том, что должны быть исключены отсылки к Декларации независимости от 23 августа 1990 г., в которой национальное самоопределение понимается, как совместные усилия бывших Армянской СССР и Нагорно-Карабахской автономной области. Нет в двух текстах и упоминания о неразрешенных проблемах анклавов, а также прописанных механизмов демаркации и делимитации госграницы. Парафированный документ недвусмысленно говорит об отсутствии третьих сторон в армяно-азербайджанском пограничье. Но в таком случае как это корреспондирует с заявлением официального представителя ЕС по внешней политике Аниты Хиппер, озвученным через четыре дня после обнародования драфта мирного договора? Выразив поддержку «историческим решениям» в Вашингтоне, она, тем не менее, недвусмысленно подчеркнула, что наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA)[2] продолжит свою деятельность, а возможные изменения ее мандата будут обсуждаться между Ереваном и Брюсселем. Непраздный вопрос, как на это посмотрят в Баку и Анкаре и на какие контрмеры будут готовы пойти. Крайне негативное отношение властей Азербайджана и Турции к деятельности миссии ЕС — факт общеизвестный.
Не исключено, что рано или поздно в повестку дня будет поставлен вопрос и о присутствии российских военных (102-я база в Гюмри) и пограничников на территории Республики Армения — дискуссии на эту тему также активно ведутся на различных площадках.
Таким образом, говорить о наступлении мира и завершении многолетнего этнополитического конфликта на Кавказе не представляется возможным. Любой процесс мирного урегулирования — не одноактный спектакль. В нем возможны и военные эскалации, и новые переговоры. Николай Силаев прав, когда отсылает нас к истории прежних договоренностей между Ереваном и Баку: «Азербайджан и Армения в своей истории уже договаривались о многом. В частности, об открытии транспортных коммуникаций в регионе. Трехсторонняя декларация, которую они подписали в ноябре 2020 г. с Владимиром Путиным, включала и этот пункт». Впрочем, можно вспомнить и о других, более ранних документах, например, о Майендорфской декларации от 2 ноября 2008 г., подписанной при посредничестве России и нацеленной на поиск компромиссных вариантов мирного урегулирования[3].
Однако было бы весьма опрометчиво делать вывод о том, что саммит в Вашингтоне не имеет никакого практического значения кроме громкого пиара. Тем более было бы ошибочным ограничивать наш анализ рассмотрением политтехнологических приемов президента США, характеризуя его как умелого шоумена. Д.Трамп, как и любой политик мирового масштаба, работает не только на решение узкой политической задачи, но и над выстраиванием «символической власти». Выдающийся французский социолог Пьер Бурдье (1930–2022) описывает этот феномен, как «способность формировать или изменять категории восприятия и оценки социального мира, которые, в свою очередь, могут оказывать непосредственное влияние на его организацию». Американской администрации важно показать и своим партнерам, и потенциальным оппонентам, что они пришли на Южный Кавказ «всерьез и надолго». И все попытки игнорировать (или недооценивать) интересы США в этом турбулентном регионе контрпродуктивны. И если судить по доминирующим западным медиа-нарративам, обращенным к итогам «исторического саммита», нельзя сказать, что американский лидер не преуспел на этом направлении.
США на Кавказе: трансформация интересов и подходов
Переговоры по армяно-азербайджанскому урегулированию в Вашингтоне приковали к себе внимание ведущих мировых СМИ и авторов «новых медиа». Такой интерес легко объясним. Конфликт двух соседних республик присутствует в медиа-повестке уже не первое десятилетие. И за долгие годы переговоров и новых военных эскалаций к нему привыкли, как к одному из важнейших факторов нестабильности в Евразии. Однако нельзя не заметить, что в комментариях по итогам августовской встречи в Белом доме преобладал вывод о «смене куратора» на Южном Кавказе. Представление о вытеснении Москвы из региона и выходе Вашингтона на первые роли в нем было отражено в публикациях как российских, так и западных медиа.
Акцент на «геополитическом кураторстве» фактически сводит рассмотрение всей кавказской динамики к некоему балансу побед и поражений США и России в одном из ключевых регионов Евразии. Однако следование этой схеме опасно утверждением упрощенного восприятия непростых и нелинейных процессов на Южном Кавказе, поскольку трамповская «сделка века» подается как некое американское неофитство в регионе «особого внимания» Москвы. Вместе с тем США — отнюдь не новичок в кавказской геополитике в целом и на армяно-азербайджанском направлении в частности. По справедливому замечанию выдающегося российского дипломата Анатолия Адамишина (1934–2025), уже в 1992 г., когда возникла Минская группа ОБСЕ (та самая, которую вашингтонская декларация предлагает распустить) «Россия уже не была единственной, кто искал (или тормозил) поиски урегулирования»[4]. И США были первыми среди тех, кто вовлекся в процесс поиска мира между Арменией и Азербайджаном.
Впрочем, еще до распада СССР некоторые американские сенаторы обращались с инициативами к советскому лидеру Михаилу Горбачеву о включении Нагорного Карабаха в состав Армении. В начале 1990-х гг. политику Соединенных Штатов можно в целом охарактеризовать, как «армянофильство». Тогда многие воспринимали движение за «миацум» (объединение АрмССР и НКАО) в контексте борьбы с последствиями несправедливой и репрессивной сталинской национальной политики. Как следствие, в октябре 1992 г. была принята поправка 907 к «Акту в поддержку свободы», которая запрещала оказание военной помощи Азербайджану по государственным каналам. Однако впоследствии ситуация стала меняться. В 1994 г. между Азербайджаном и консорциумом иностранных фирм был подписан «контракт века» на разработку каспийских нефтяных месторождений. Вовлечение в этот амбициозный проект крупного американского бизнеса заставило Вашингтон пойти на существенную корректировку своих подходов к Южному Кавказу. Впоследствии Штаты будут де-факто замораживать поправку 907. О ее полной отмене заявит только президент Д.Трамп во время вашингтонского саммита. Впрочем, между декларацией и практическим воплощением этой идеи существует определенный зазор.
Известные американские эксперты по Евразии, такие как Пол Стронски, Юджин Румер, Кори Уэлт (успешно сочетающие академический интерес и практическую работу в Госдепартаменте, в Национальном совете по разведке или аппарате Конгресса) определяли Кавказ как «важный, но не критически важный регион» для интересов Вашингтона[5]. Действительно, со странами этого региона Соединенные Штаты не граничат, а влияние кавказских диаспор на принятие ключевых политических решений несопоставимо с ролью израильского и ирландского лобби. Деятельность армянской диаспоры в США, как правило, затрагивала вопрос о международном признании геноцида в Османской империи или оказания материальной помощи карабахским армянам, но без далеко идущих геополитических целей. И здесь ключевой вопрос — асимметрия в восприятии Кавказа в Москве и в Вашингтоне.
Если для России Закавказье — это безопасность «ближнего зарубежья», во многом продолжение северокавказской повестки (учитывая воздействие грузино-осетинского конфликта на положение дел в Северной Осетии и Ингушетии, грузино-абхазского противостояния — на динамику в западной части российского Кавказа, а фактора Панкиси — на ситуацию в Чечне), то для США кавказская повестка — это часть более широкого евразийского геополитического паззла, в котором не столько Грузия, Азербайджан и Армения, сколько Россия, Турция, Иран и Китай — ключевые приоритеты. Блестящий знаток постсоветской конфликтной проблематики Анатолий Адамишин констатировал: «У американцев была железная установка: в странах СНГ везде где только можно мешать укреплению позиций России, процессам сближения»[6]. Оправдывалось это опасениями возрождения СССР в той или иной форме. В этом плане весьма показательна оценка Строуба Тэлбота, в 1994—2001 гг. занимавшего в администрации Билла Клинтона пост заместителя госсекретаря, курирующего СНГ: «Может быть, с официальной точки зрения России Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами, но в глазах всего мира это расширение российской территории. И это произошло в первый раз с момента окончания советской эпохи. Я считаю это опасным явлением»[7].
К слову, это также объясняет наличие двух непохожих треков в российско-американских отношениях по Кавказу. Вашингтон и Москва как минимум с 2003 г. («революции роз» в Грузии) четко и последовательно расходились в оценках и подходах к проблемам Абхазии и Южной Осетии. Но при этом на карабахском направлении США и Россия долго взаимодействовали и как сопредседатели Минской группы, и на двусторонней основе. Вашингтон не устраивал «ревизионизм» России (одностороннее признание Абхазии и Южной Осетии). Вместе с тем в армяно-азербайджанском урегулировании Соединенные Штаты не видели проявлений подобного. И взаимодействие двух великих держав не остановили ни «пятидневная война» 2008 г., ни присоединение Крыма в 2014 г., ни расхождения по приднестровскому урегулированию. Попытки Вашингтона вырваться в лидеры по части миротворчества (недельные переговоры с участием высших представителей США, Азербайджана и Армении в Ки-Уэсте в апреле 2001 г.), воспринимались в Москве в целом сдержанно. Уникальный карабахский алгоритм был сломан с началом СВО в феврале 2022 г., когда Вашингтон отошел от нюансированной политики в отношении Москвы, перейдя к ее «сдерживанию», нацеливаясь на «стратегическое поражение» России на Украине.
Таким образом, США отнюдь не в августе 2025 г. решили побороться за лавры главного миротворца на Кавказе. Такие попытки предпринимались ими регулярно на протяжении всего периода после распада СССР. Но почему именно сейчас Вашингтон резко активизировал свои миротворческие усилия?
Южный Кавказ: в 2020–2025 гг. трансформация геополитического дизайна и активизация Вашингтона
Инициатива Трампа стала логичным следствием масштабных геополитических перемен на Южном Кавказе. В последние пять лет геополитический ландшафт региона претерпел значительные изменения. Еще в 2020 году Закавказье можно было назвать сферой не только особых интересов, но и приоритетного влияния России. Без решающего голоса Москвы не менялся ни один военно-политический расклад в регионе. Эта российская геополитическая эксклюзивность была успешно протестирована и в ходе «пятидневной войны» в Южной Осетии в августе 2008 г., и во время «четырехдневной войны» в Нагорном Карабахе в апреле 2016 г. Привилегированный статус Москвы был оспорен Грузией при поддержке Запада, но с крайне негативными последствиями и для нее самой, и для репутации ее патронов. Но в целом он принимался Азербайджаном и Арменией, соседними странами (Ираном и Турцией) и внешними игроками (США, ЕС и НАТО). Особая роль Москвы как модератора в процессе армяно-азербайджанского урегулирования позволяла ей сохранять одновременное влияние и на Баку, и на Ереван.
Начиная со «второй карабахской войны» сентября–ноября 2020 г. началась драматическая трансформация кавказского геополитического дизайна. По итогам этого противостояния был разрушен военно-политический статус-кво, существовавший на протяжении 26 лет. Однако проблема заключалась не только в том, что Азербайджан вернул под свой контроль семь оккупированных районов и значительную часть территории «ядрового Карабаха», тем самым взяв реванш за прошлые поражения и уступки. Карабахская кампания Баку прошла при беспрецедентной военно-политической, дипломатической, экономической и информационной поддержке Турции, вследствие чего произошло значительное усиление роли Анкары на Кавказе.
Тем не менее главным итогом «второй карабахской войны» стала неоднозначность ее результатов. С одной стороны, Россия понесла определенные имиджевые потери из-за разгрома ее стратегического союзника Армении (для массового сознания все нюансы политико-дипломатических действий Москвы не были известны и интересны), а с другой — получила право размещения миротворцев в Нагорном Карабахе, где до ноября 2020 г. не было никаких мирогарантийных операций. И это было воспринято и в Турции, и в Иране, и на Западе в качестве определенной «геополитической компенсации» для России. Азербайджан и Армения, а также главные внешние игроки в Закавказье по-прежнему рассматривали Москву как ключевого модератора мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
С началом СВО на Украине для России пространство для маневра в Закавказье значительно сузилось. Во-первых, ее военные ресурсы концентрировались на главном направлении — украинском, а во-вторых, в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада Азербайджан и Турция смогли «капитализировать» свою внешнеполитическую сдержанность в отношении Москвы с пользой для себя. В сентябре 2023 г. история де-факто государственности армян Нагорного Карабаха была завершена. И не посредством переговоров, а с помощью силы. Это привело к формированию новой посткарабахской реальности, в которой у Москвы уже не было эксклюзивного влияния на обе стороны конфликта, что не могло не привести (хотя и по совершенно разным причинам) к стремлению Баку и Еревана к диверсификации своих внешнеполитических контактов.
И нельзя не увидеть, что США воспользовались этой ситуацией и сделали немало для усиления своих позиций в регионе. Сегодня принято противопоставлять подходы команды Дональда Трампа и его предшественника Джозефа Байдена. Вместе с тем на кавказском направлении 47-й американский президент во многом продолжает наработки 46-го. В этом контексте можно вспомнить и про переговоры Энтони Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции в феврале 2023 г., и на визиты четырех (!) делегаций из США в Ереван в апреле того же года, и про подписанную уходящей администрацией Хартию о стратегическом партнерстве с Арменией. «Исторический» экспромт был слишком хорошо подготовлен!
Означает ли это, что США одерживают (или уже одержали?) уверенную победу в миротворческой гонке на Кавказе? На сегодняшний день такой вывод кажется преждевременным по нескольким причинам. Во-первых, у России даже в условиях слома прежнего военно-политического статус-кво сохраняются и военно-политические, и социально-экономические, и дипломатические ресурсы для сохранения влияния в стратегически важном для нее регионе. Во-вторых, попытки Соединенных Штатов выйти в лидеры по части миротворчества будут сопровождаться отнюдь не только лаврами, но и рисками, и издержками. До 2022 г. Вашингтон не слишком спешил быть первым миротворцем, уступая инициативу Москве не в силу альтруистических соображений, а желая сэкономить на ответственности. Ведь никто не даст гарантий, что Баку и Ереван во всем и всегда будут следовать указаниям из Белого дома. Тем не менее американцами сделана серьезная заявка на лидерство в стратегически важном регионе Евразии. Конкуренция за влияние в нем будет расти, тем более что не только Россия и США имеют в нем интересы.
_______________________
[1]. Публикация парафированного соглашения между Арменией и Азербайджаном 11 августа 2025 г. URL: https://www.mfa.am/hy/press-releases/2025/08/11/Initialed%20Arm-Az%20Peace%20Agreement%20text/13394
Сайт правительства Азербайджана. URL: https://www.mfa.gov.az/az/news/no33725
[2]. Миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начала функционировать в феврале 2023 г. Ереван мотивировал этот шаг последствиями военной эскалации, произошедшей в сентябре 2022 г., когда атаке азербайджанских войск подверглись не только пограничные районы, но и город-курорт Джермук Вайоцдзорской области (около 170 км от Еревана). Изначально сроки присутствия Миссии определялись в два года. В декабре 2023 г. ее состав был увеличен на 69 человек. Парламент Армении ратифицировал Соглашение с Брюсселем о статусе служащих, размещенных вдоль госграницы. В начале 2025 г. мандат миссии был продлен еще на два года.
[3]. Майендорфская Декларация 2 ноября 2008 г. и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Сборник статей / Составители В.А. Захаров, А.Г. Арешев. — М.: НП ИД «Русская панорама», 2009. — 352 с.
[4]. Адамишин А.Л. Адамишин А.Л. После СССР – опыт тушения геополитических пожаров // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. №3. С. 71-98.
[5]. Markedonov S.M. & Suchkov M.A. Russia and the United States in the Caucasus: cooperation and competition // / Caucasus Survey. 2020. Vol.8. №2 P. 179-195.
[6]. Адамишин А.Л. Указ соч.
[7]. «Надеюсь, что следующая администрация США вернётся к идее Договора по противоракетной обороне» // Время новостей, 2008, 1 ноября. №204.
РСМД. 21.08.2025