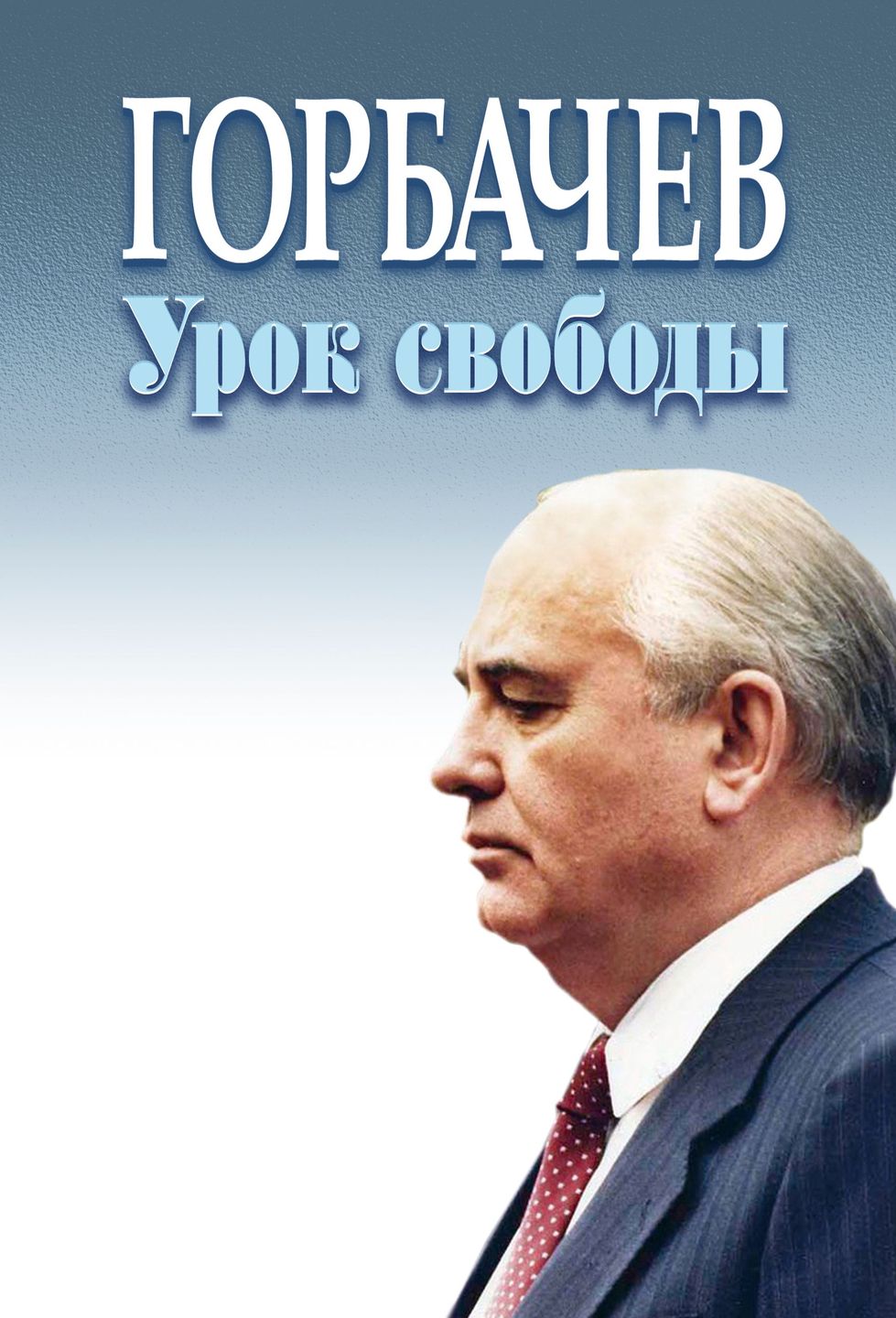Современность и справедливость: о чем говорит рост ностальгии по СССР
Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества
Рост числа сожалеющих о распаде Советского Союза вполне понятен — это сочетание тоски по утраченным надеждам, непонимание направления, в котором сейчас движется страна, и растущее разочарование народа в элите.
Как обычно в середине декабря, Левада-центр опубликовал результаты опроса россиян об отношении к СССР. Страна, созданная 96 лет назад и ушедшая в историю 27 лет назад, в очередной раз продемонстрировала, что она жива, по крайней мере в сознании тех 66% россиян, которые сожалеют о ее распаде. Показатель не только рекордный за последние полтора десятилетия, но и выросший всего за год в пропорции, в какой он поднимался за пять тяжелейших в нашей истории лет между 1994–1999 годами. Разумеется, это стало предметом многочисленных комментариев. Мне кажется, что нарастающую ностальгию нужно осмыслить хотя бы потому, что обычные ответы респондентов, а на первое место с 52% вышла «печаль» о «разрушении единого экономического пространства», очевидно, лукавы (такого единства никто не ощущал даже в советские времена, чтобы нынче о нем жалеть). Я попытаюсь высказать ряд соображений относительно того, чем объясняются подобные результаты опросов.
Уходящее время
Первое и самое очевидное обстоятельство относится к сфере чистой психологии. Если сравнить эволюцию «индекса ностальгии» по отдельным возрастным группам за последние, скажем, 15 лет, легко можно увидеть значительное его снижение у граждан от 34 лет и младше (что понятно — если в середине 1990-х люди такого возраста помнили СССР, то теперь уже нет). В то же время самый устойчивый рост заметен в группе 35–54-летних — тех, кто провел юность в Советском Союзе, а сейчас стареет в новой России. Эти люди либо ощущают себя частью прошлого (соответствующие чувства условно воплощает песня Бориса Гребенщикова «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет» 1983 года), либо надеются сохраниться в системе, которая их постепенно перемалывает, — тут на память приходит I Will Survive Глории Гейнор из той же, что характерно, эпохи (1978). Личные грусть и неприятие хода времени — это, на мой взгляд, самые очевидные факторы роста постсоветской ностальгии, не несущие в себе никакого значимого социально-политического контекста.
Имперское и национальное
Второй фактор, как мне кажется, глубже и при этом намного хуже осмыслен. Его иногда упоминают как ностальгию по империи (в опросе Левада-центра он фигурирует на втором месте с 36% голосов как «потеря чувства принадлежности к великой державе»). Империи распадались часто, в ХХ веке особенно, но сегодня редкий австриец плачет по ночам по великой Австро-Венгерской монархии, как и редкий француз мечтает заново нести цивилизацию в Алжир и Камерун. Проблема России скорее в ином. Страна на протяжении столетий формировалась как империя; она начала экспансию на Восток до того, как обрела минимальные черты национального государства, и проблема современной некомфортности порождена не столько крахом империи, сколько отсутствием нации, которую до поры до времени эта империя заменяла. В отличие от Франции или Великобритании Россия не имеет достижений национального масштаба; все ее успехи были имперскими — как та же Великая Победа, отмечаемая 9 мая, — а ничем новым мы похвастаться не можем. Между тем в современном мире национальная идентичность имеет исключительное значение; ее не заменить аморфным «русским миром» или мифическим «евразийством». Отсюда и желание вернуться назад, так как Советский Союз воплощал в себе максимально возможный уровень «растворения» национального в имперском.
Правильная сторона истории
Третий момент связан, на мой взгляд, со смутно ощущаемой людьми идеей прогресса. Советский Союз не мог обеспечить человеку высокого уровня жизни и многих элементарных удобств, но он создавал мощную идентификацию с силами прогресса. Поддержка деколонизации воспринималась как продвижение свободы; интернационализм — как будущее мира; полеты в космос и освоение ядерной энергии — как воплощение технологического лидерства. Теперь же, когда Европа интегрируется, мы спорим с Украиной из-за территорий; когда мир извлекает выгоды из смешения культур, мы воспеваем традиционные ценности; когда повсюду ездят электромобили и развивается искусственный интеллект, мы показываем машину с электроприводом ижевской сборки. Ностальгия по СССР в этом аспекте — это желание вернуться «на правильную сторону истории», а не ехать по полосе встречного движения. Характерно, что самый резкий спад постсоветской ностальгии — и это недооцененный момент в исследовании Левада-центра — фиксируется в 2008–2012 годы, когда Дмитрий Медведев, пусть и неумело, провозгласил курс на «возвращение в мир»: всего за четыре года «индекс ностальгии» снизился с 60 до 49%, единственный раз уйдя ниже 50%. Россия хочет быть современной, а самой современной, как сейчас оказывается, она была в советскую эпоху, что, конечно, печально, но факт.
Недоверие к элите
Четвертое обстоятельство так или иначе подчеркивается многими: рост неравенства, взаимного недоверия и ожесточенности. Мне кажется, однако, что и тут мы за формой не видим содержания. Россия никогда не была коллективистским обществом, основанным на доверии и взаимной приязни. В то же время она никогда не была обществом, базировавшимся на праве и правовом сознании. Вследствие этих двух обстоятельств важнейшей категорией, позволявшей людям мириться с тяготами бытия, была «справедливость» в самых разнообразных ее трактовках. Можно было делать что-то не по закону, но «правильно», и это было формой приспособления к несовершенству общества и трудностям повседневной жизни. Советский Союз на его поздней стадии в целом отвечал этой традиции: он был обществом умеренного неравенства; очевидно, уделял внимание меритократическим принципам и в отсутствие демократии обеспечивал множество инструментов локальной подотчетности власти. Современная Россия, мне кажется, шокирует выросшего в советском обществе человека не масштабами неравенства, но уровнем несправедливости. Нынешние элиты не воспринимаются населением как достойные своих статуса и богатства, а отношение власти к людям вызывает все большее раздражение — жизнь советской номенклатуры уже кажется служением народу в условиях чуть ли не францисканского нестяжательства.
Конечно, у большинства взрослых россиян имеются и свои личные мотивы сожалеть о распаде СССР, и ни один из них не нужно воспринимать с иронией или пренебрежением. Однако даже из сказанного следует, что ностальгия по Советскому Союзу вполне понятна и объяснима. В ней сочетаются тоска по утраченным жизненным надеждам; некомфортность существования вне понятных рамок национального пространства; ощущение движения если и не в неправильном, то необычном по стандартам развитых стран направлении, и, наконец, растущее ощущение народа, что элита предала его и живет в своем параллельном мире.
Все эти настроения понятны, но закончить я хотел бы на совсем иной ноте. В подавляющем большинстве обществ совокупность данных факторов вызвала бы быструю переориентацию лучших умов нации на поиск образа будущего — как то происходило начиная с эпохи Просвещения до периода кристаллизации в Европе идей коммунизма и фашизма. Но в России именно эта продуктивная сторона ностальгии полностью отсутствует. Тоска по прошлому не рождает мечту о будущем, и это очень тревожный знак, куда более тревожный, чем все озабоченности, обычно перечисляемые современными российскими политиками и экспертами.
РБК. 24.12.2018