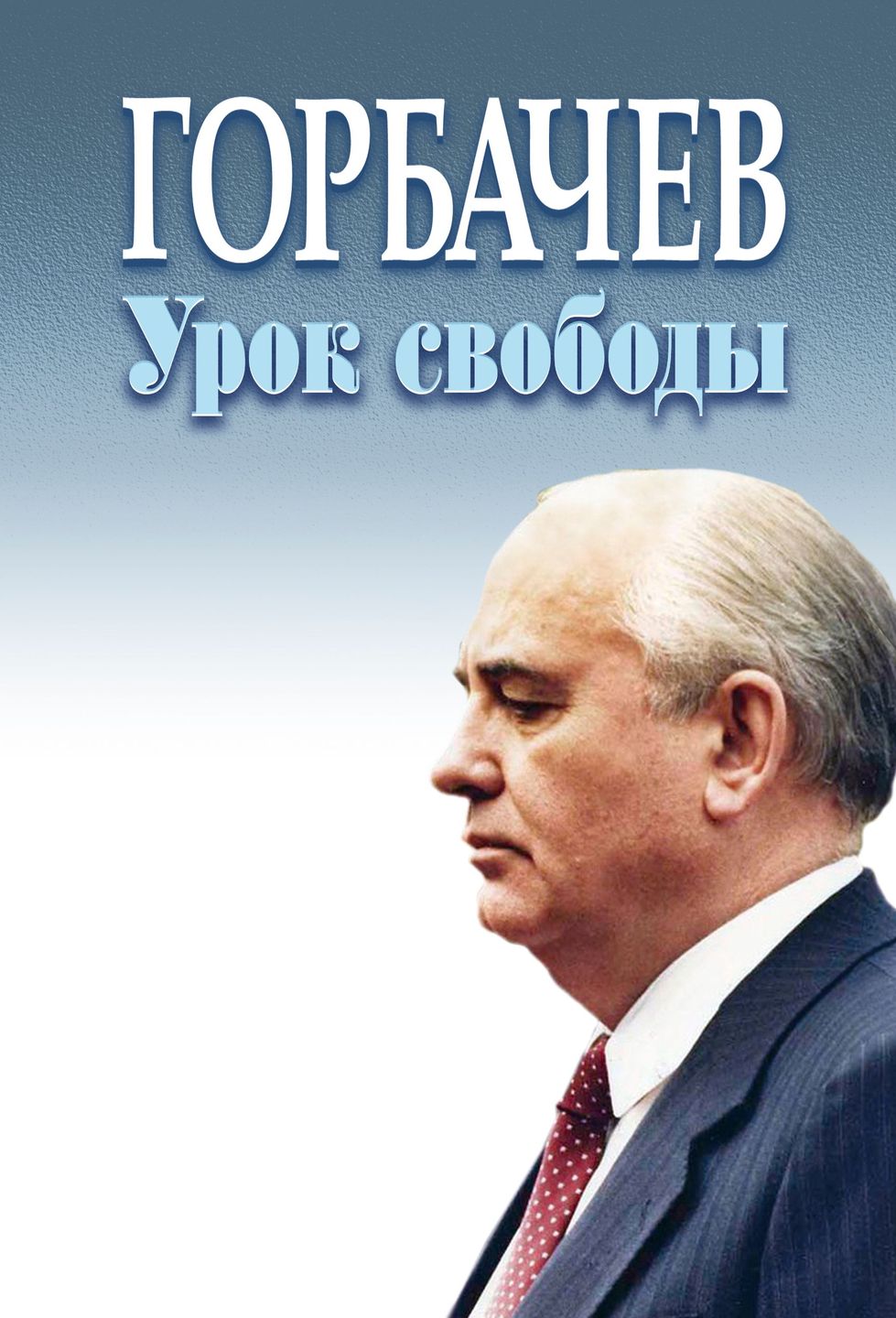Об одиночестве России и неизведанной Евразии
Продолжение обсуждения статьи В.Суркова «Одиночество полукровки» и ответной статьи Го Сяоли напечатаны в издании «Россия в глобальной политике».
Владимир Малявин, доктор исторических наук, профессор Института изучения Европы Тамканского университета на Тайване (ранее – Институт России Тамканского университета)
Евразии — ни малой, ни большой — нет на карте. Никто не знает ее границ. В ее центре — необъятные пустыни, разливы ее гигантских рек превращают сушу в моря, ее высочайшие в мире горы встречаются с безбрежными степями. Во всем прямая противоположность представлению Запада о себе как “граде на холме”. Пока что разговор о Евразии — как блуждание Моисея или плавание Ноя: надо нащупать хоть какие-то берега, хотя бы предварительно определить свое местонахождение.
Евразия есть то, чего нет и что присутствует в чем-то другом.Тем самым она выявляет силу мифа, действительность утопии подобно тому, как легенда о Китеже указывает на скрытый фокус русской жизни. Не может не быть как раз того, чего не может быть. Это печально? Не обязательно. Как сказал бы Лао-цзы, пустой сосуд многое предвещает, а от полного сосуда одна головная боль. Если Запад занимает нишу логической оппозиции сердцевинной пустотности Евразии и притом достиг исторической точки насыщения, тогда понятны его “нигилизм”, его упорное нежелание обсуждать тему Евразии, доходящее до попыток списать евразийство на ”неврозы” русской души; попыток, как водится в таких случаях, свалить свои проблемы на другого.
Разговор о Евразии требует нового языка и нового видения человечества, точнее — способности видеть грядущее человечество. Его нельзя свести к этнографии, истории, социологии, культуре, даже политике. Сделать так значило бы отказаться от вызова Евразии ради западного рацио. Все поделить, чтобы все погубить. Здесь требуется умение превзойти все “данное”, чтобы увидеть заданное целое. И не случайно русские мыслители, начиная с Ивана Киреевского, видели в Западе “совершенство частных форм” при нечувствовании той целостности бытия, без которой не бывает полноты человечности. “Мы силимся стать виртуозами, а делаем себя калеками”, — говорил о русском западничестве Василий Розанов. Пережить же всеединство человеческого мира можно только в гуще повседневности, в самом обыкновенном усилии “быть человеком”. Мне по душе древнее китайское изречение, которое я несколько вольно перевожу так: “Человечность — это человечество”.
Тексты В.Суркова и китайской русистки Го Сяоли служат хорошим приглашением к разговору о Евразии. Хотя бы потому, что — кажется, помимо воли самих авторов — в них ярко отразились особенности национального менталитета соответствующих народов. В первом случае — пафосный, на грани скандала, эмоциональный всплеск, в котором я вижу свидетельство внутренней честности. Во втором — вкрадчивое, но настойчивое стремление все согласовать “ради общей пользы”. Очевидный недостаток первого подхода в том, что он мало способствует пониманию. Далеко не столь заметный недостаток второго — вольное обращение с понятиями в угоду желанной гармонии. Взять хотя бы такое неоднозначное слово, как “одиночество”. Го Сяоли вспоминает и “одинокий парус” Лермонтова, и даже “одиноко сидящего демона” Врубеля, но забывает о русской соборности и даже о том, что “одиноко сидящий” затворник не менее характерен для китайской культуры, чем пустынник для русской. Добавлю, что в китайском слове “одиночество” ключевой иероглиф ду отсылает и к понятию независимости, и даже к определению Дао у древних даосов, а в конфуцианском каноне, названном в переводе “Золотой Серединой” (правильнее переводить: “Центрированность в обыденном”), он входит в словосочетание “блюсти одиночество” (шэнь ду) — главный принцип нравственного совершенствования в конфуцианстве. Легко понять, что человек, сознающий свою единственность, уже не одинок. Он видит себя в вечности. И русский поэт мог сказать: “Я и садовник, я же и цветок/В темнице мира я не одинок…”
В рассуждениях профессора Го многое способно вызвать недоумение русского читателя. Но сейчас важнее сделать общий вывод из этих замечаний. А он состоит в том, что значения слов плывут и стремление раз и навсегда зафиксировать их делает невозможным понимание и духовную жизнь вообще. Пресловутый “диалог культур” есть совместная работа индивидов и народов по преодолению застывших, омертвевших значений ради открытия новой жизни в духе и приобщения, как выражался Валериан Муравьев, к “надвременному соборному телу” человечности-человечества.
Мудрость — это решимость удерживать в уме, сознании, чувстве полярные противоположности жизни. Вы хотите правильно двигаться? Научитесь быть в покое. Хотите хорошо говорить? Научитесь молчать. Хотите знать? Научитесь забывать. Хотите быть? Умейте не-быть… Так Инь и Ян переходят друг в друга, оставаясь противоположными полюсами. Единство мира держится его бесконечным разнообразием. Мудрость восточных народов состоит превыше всего в том, что они спроецировали эти странные тезисы (выведенные из ритуалов) на всю жизненную практику. Ею питается восточная стратегия и политика. И это истины всечеловеческие. Христос тоже учил все отдать, чтобы все (на деле гораздо больше) получить. Он учил, что его сила дается в немощи. Проблема в том, что субъективный, руководствующийся идеей самотождественности вещей разум неспособен эту мудрость вместить, и Запад пошел у него на поводу.
Теперь должно быть понятно: осторожность в обращении со словом и образом требует быть как раз открытым всем превращениям смысла. Тот, кто учится, имеет дело не с “предметом”, а с “проблемным полем” (Делез), в котором смыслы перетекают друг в друга. Речь идет не о подчинении вещей идеям и принципам, а о совместности всего сущего, событийности всех событий, в которых становится возможной встреча несходного, равенство несопоставимого. Так практика учения оказывается выше знания, и она неотделима от всеобщих и обязательных для всех форм культуры. На Востоке жить — значит учиться, перерастать себя, не имея никакого формального знания. Отсюда исходит и присущая евразийскому миру особая традиция политики, или, скорее, само условие существования политики, которое утверждает соположенность непрозрачных друг для друга величин: отсутствующей в своей самодержавности власти и столь же отсутствующей в мысли стихии повседневности. Как раз поэтому многообразие локальных культур в Китае подтверждает его единство, и Китай глобализируется в виде “чайнатаунов” столь же демонстративно “китайских”, сколь и отделенных от Китая, политически подчеркнуто нейтральных и непрозрачных для окружающего общества. И еще одно любопытное обстоятельство: Тихоокеанский регион с его “рассеянной” геополитической структурой представляет своеобразную “океаническую” версию континентальной Евразии. В обоих случаях жизнеспособна только многополярная, синергийная по природе организация, не допускающая формальных блоков и союзов, которые неизбежно делят мир на “своих” и “чужих”. Так что “одиночество” и извечная неопределенность политики в известном смысле все же являются фирменным знаком Евразии.
Дао, или Путь, — сокровенная связь вечно разделенных миров. В его отсутствующем, символическом пространстве никто не может находиться, никто ничего не может делать, но в нем… все делается. Задание человека здесь — вместить в себя совместность и превзойти себя. Здесь никто не рождается с приписанными ему правами, но каждому предписано воплотить в себе человечество.
В свете сказанного первоочередная задача в продумывании концепции евразийского мира — это анализ понятий и ценностей, относящихся к политическим отношениям евразийского типа. Говоря конкретнее, предстоит разобраться, как китайские понятия “совместности”, “согласия”, “сообщительности”, “встречи”, творящего хаоса и др. соотносятся с западными понятиями синергии, синхронности, сложных самоорганизующихся систем и т.п. Отдельно следует рассмотреть круг понятий, относящихся к антропологии и познанию. Наконец, нужно определить последствия евразийского типа мировоззрения для реальной политики.
Можно предположить, что в реальности глобальный мир будет представлять собой двуединство евроазиатской и западной или, если угодно, евроамериканской миросистем. Характер отношений между ними пока трудно определить со всей точностью, но скорее всего это будет определенный симбиоз или баланс, не предполагающие конфронтации, что-то вроде отношений между сном и явью или параллельными мирами в современной концепции строения вселенной. Подобные представления существовали в азиатских традициях и, что гораздо меньше известно, в истории русской культуры. Вспомним идею Владимира Соловьева о “забытом и себя забывшем боге”, оказавшую сильнейшее влияние на мировоззрение Серебряного Века. Мотив особенно заметный у Блока: “Ты, как младенец, спишь, Равенна/У сонной вечности в руках…”; “Ты и во сне необычайна… И в тайне ты почиешь, Русь”. Еще раньше тема весомости инобытия присутствует в творчестве Тютчева. В таком случае познание станет делом повышения чувствительности и чувствования Иного.
На предложенном здесь пути размышления следует ожидать много резких поворотов и непредвиденных открытий. К примеру, нынешняя лихорадочная вестернизация восточноазиатских обществ на поверку может оказаться способом самоопределения их культурных традиций, возвращения к себе в условиях глобального миропорядка. Есть основания полагать, что в кардинально изменившемся облике Азии по-новому высветятся и ее вечные ценности. Так что цутеводные звезды будут. И это подтверждает перспективность намеченного пути.
Средоточие. 30.06.29018