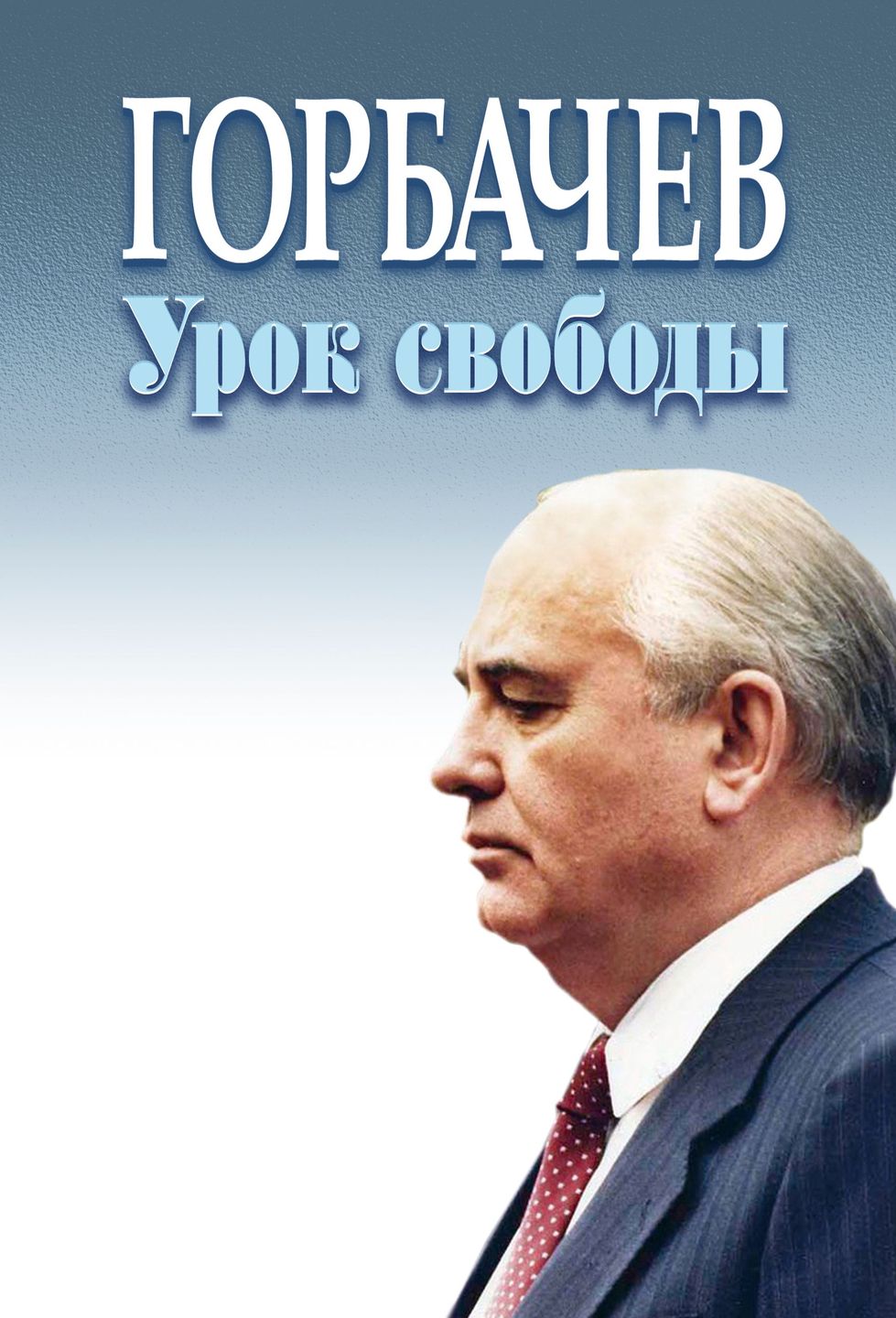Дилеммы европейской политики России: НАТО - ЕС, постмодернизм, идентичность и т.д.
Александр Крамаренко, директор по развитию Российского совета по международным делам
В последнее время, в том числе на сайте РСМД (материалы С.Маркова и И.Куриллы), развернулась острая дискуссия о будущем европейской политики России. К сожалению, как правило, высказываются полярные точки зрения. По большому счету дискуссия сводится к опасениям одних, что российское руководство «сольет» в конфликте с Западом, а других — что окончательно с ним порвет, повернув на Восток. С чем можно согласиться, так это с тем, что вся европейская политика в ее нынешнем виде исчерпала свой инерционный ресурс как составная часть общего геополитического эндшпиля — как-никак прошло четверть века с момента окончания холодной войны и распада Советского Союза.
Расширение НАТО, как и ожидалось, привело к отчуждению России, а расширение Евросоюза, против которого Москва никогда в принципе не выступала, не только создало дополнительные линии напряжения в нем самом (в том числе в силу того, что создавало иллюзию движения вперед, подменяя собой собственно интеграционную динамику), но и привело к обострению отношений с Россией в области общего соседства. В последнем случае речь шла отнюдь не о членстве (той же Украине никто его не предлагал), а о попытке застолбить геополитическое пространство по дешевке. И в этой связи вполне можно говорить о том, что Брюссель действовал как спойлер — по аналогии с коллективными действиями Запада и его региональных союзников в Сирии. Поэтому есть о чем говорить — назрела масштабная переоценка ценностей на европейском направлении нашей внешней политики.
Прежде всего, важен анализ нынешнего состояния наших европейских и вообще западных партнеров, вступивших в полосу системного общественного кризиса. Именно на счет кризисной мобилизации элит можно относить откровенно, вплоть до ничем не прикрытой враждебности, антироссийскую политику западных столиц, лидерство в которой взял на себя Лондон. События последних лет на Западе убеждают в том, что раздельное существование общества — космополитичного меньшинства и укорененного в собственной стране большинства — долго продолжаться не может. В этом смысл «популизма», а если быть точным — роста протестного электората, который не определился идейно, но по собственному опыту понимает, что «что-то прогнило в Датском королевстве». Как свидетельствует поддержка молодежью Дж.Корбина и Б.Сандерса, ее инстинкты указывают в направлении социал-демократических истоков левоцентристских партий. Оно и понятно, поскольку вряд ли устарела наиболее цитируемая максима Юргена Хабермаса: социальное государство (именно оно разрушается на протяжении жизни, как минимум, одного поколения) — это мирное сосуществование между демократией и капитализмом.
До недавних пор этот разлад в западном обществе прикрывала, как густым туманом, концепция постмодернизма, которая по своей сути является абсолютным релятивизмом (агностицизм, эклектизм, плюрализм истины, «перформативность», дискурс с его метафоричностью и несвязанностью и т.д.) и логическим завершением процесса отхода от идеалов Просвещения с его упором на научное знание и разрушения традиционного общества, начало чему положила Французская революция. Очевидно, что подобная философия абсолютной свободы от всего, в том числе от собственной страны, может быть только элитарной — атомизированное до такой степени общество просто не в состоянии существовать. Две системы координат — одна для элит и «старый» модернизм, так уж и быть, для остальной части населения, положение которого низведено до права голосовать за усредненную безальтернативную политику элит (чего стоит один только «третий путь» Новых лейбористов, прикрывавший принятие тэтчеризма: М.Тэтчер не случайно заметила, что Т.Блэйр — ее главное достижение) — могли сосуществовать только в условиях контроля элит над информационным пространством. Естественно, что как только он рухнул, кризис вышел на поверхность, громко заявив о себе в том числе Брэкзитом и Трампом.
Постмодернизм западных элит как эксклюзивная философия привилегированных классов во многом сродни мироощущению аристократии кануна Французской революции — ее отношение к остальной части населения столь же «красиво отстраненно» (beautifully), если воспользоваться выражением В.Сэквилл-Уэст (в ее «Всех страстях минувших»), и скользит по поверхности обыкновенной жизни, «не касаясь ее». Не хватает только Марии-Антуанетты, или это Хиллари с ее deplorables? Неудивительно, что такой дуализм в обществе не мог не иметь серьезных последствий, возможно, не менее значительных, чем те, которые запустил революционный цикл в Европе. Конечно, состояние западных элит можно отнести и на счет «вторичного упрощения» К.Леонтьева, общего для всего западного общества (вспомним аристократическую критику демократии), но наиболее ярко проявившегося в рядах истеблишмента.
Возможно, поэтому устойчивой нелюбовью западных элит пользуется О.Шпенглер со своим «Закатом Западного мира». З.Бжезинский оказался в числе очень немногих западных политологов, кто еще в 2005 г. (в статье «Дилемма последнего суверена» в журнале American Interest) указал на «мрачные признаки» актуальности его идей об универсальных закономерностях упадка цивилизаций. Напомню, что в их числе «медленное проникновение первобытных состояний в высокоцивилизованный образ жизни», «сила денег и цезаризм». Последний можно усмотреть в фигурах Д.Трампа и Э.Макрона, хотя Д.Трамп, отвергая статус-кво, спасает страну вопреки воле американского истеблишмента. Так, в последние годы нарастала угроза проведения конференции штатов, предусмотренной Конституцией США, что могло бы поставить под вопрос территориальную целостность Америки.
Так же как для России пришлось некстати состояние капитализма, усилиями элит возвращавшегося к эпохе до 1929 г., нам не повезло и с постмодернизмом, который был разоблачен как шарлатанство серьезной научной критикой на Западе еще в конце 90-х гг., но набирает силу среди значительной части нашей либеральной общественности, включая призывы «писать тексты» в постмодернистском стиле. Флобер мечтал написать роман, в котором не будет ничего кроме стиля. Это вполне удалось его соотечественникам от политической философии более века спустя, надо полагать, отчасти в порядке реакции на 1968 г. Трудно изобрести нечто более охранительное по отношению к статус-кво — постмодернизм уничтожает сам мыслительный процесс, заведомо лишая его смысла и цели.
Тем более поражает устойчивость этой моды, включая политические рэп-баттлы (постмодернизм в искусстве — другой вопросы, требующий отдельного рассмотрения), среди тех, кто выступает против статус-кво в России. Никакие аргументы не играют роли в общественном дискурсе, определяемом не столько идеями, сколько отношением к власти. Казалось бы, для тех, кто путает религиозность с мракобесием, авторитетом должен быть Ричард Докинз, который выступил с не менее уничтожительной критикой постмодернизма. Можно только удивляться тому, с какой жадностью мы, в России, набрасываемся на сомнительные продукты европейской левой политической мысли, которые легко мутируют в правый экстремизм. Американский опыт показал, что от троцкизма до неоконсерватизма всего один шаг — не важно, во имя чего, главное — насиловать историю и заниматься социальной инженерией. Не менее важно и то, что игнорируются уроки, причем вполне очевидные, которые дает нынешнее состояние западного общества. Отношение к кризису Запада стало у нас предвзято партийным — любая его критика воспринимается не как разговор по существу, а как косвенная апология российской власти.
Поэтому, наверное, пришло время разорвать связь между дебатами о внутреннем развитии страны и о нашей внешней политике, включая европейскую — ничто не придет «оттуда». Последняя уже достаточно деидеологизирована — в ее основе лежат понятные национальные интересы и Вестфальские принципы, закрепленные в Уставе ООН. Такого же деидеологизированного подхода мы ожидаем от своих западных партнеров, которые, соглашаясь, что ни о каком «конце истории» речи быть не может, не хотят признать, что себя исчерпала вся прежняя идеологическая парадигма. Это возвращает нас к базовым понятиям рациональности, нормативности и открытости, грубо искаженных, если не извращенных постмодернистскими галлюцинациями. Достаточно сказать, что абсолютный релятивизм отрицает любую нормативность и правовое государство, а агностицизм — научное познание мира как когнитивную основу картины мира. И когда Россию и протестный электорат западных стран начинают обвинять в неуважении к экспертному мнению, в «постправде» и прочих релятивистских грехах, то ясно, что это не по адресу. Россия со значительным опозданием причастилась плодов постмодернизма. Надо полагать, косвенным признанием существования у нас этой проблемы служат слова В.Иноземцева о «всеобщем нигилизме» в стране, хотя явно обобщается грех сравнительно немногих.
Надо перестать рассматривать демократию как исключительно западный продукт, увязанный с общим комплексом наших отношений с Западом. Не будет лишним сказать, что союз и Российской Империи, и СССР с западными демократиями в двух мировых войнах обеспечил победу либерализма на Западе, что позволяет нам рассматривать его как часть собственного наследия, разумеется, без постмодернистских эксцессов. Возможно, что в этом верное указание на дальнейшую ценностную конвергенцию между Россией и Западной Европой.
Россия, в том числе в силу своей европейской идентичности, не может уходить в самоизоляцию от Европы под предлогом ожидания, чем закончится тамошний кризис. Усталость друг от друга и тоска друг по другу (у нас — «европейская тоска», о которой говорил Ф.Достоевский) отнюдь не исключают друг друга. Стратегическое терпение, которого нам не занимать, не означает самоустранения от европейских дел — это всегда кончалось плохо для всей Европы, включая Россию. Переломный этап в мировом развитии, а будущее исторического Запада является лишь частью более широкой, глобальной реконфигурации, вряд ли может быть подходящим моментом для больших идей по части культурно-цивилизационной и геополитической идентичности России. Можно предположить, что этот вопрос решится естественным образом по итогам глобальной трансформации. Столь же естественно сложился формат «восьмерки» ШОС, консолидирующей маккиндеровский Хартленд — Большую Евразию. Из опыта национальной жизни появятся свои Пейны и Берки, которые смогут преодолеть идеологические наслоения последних двух столетий. А пока, если брать антитезу Донбасса и постмодернизм, мы находимся где-то весьма посередине и на достаточно твердой почве.
Не будем забывать свое далеко не случайное «двуглавое» византийское наследие. В свое время Ф.Тютчев писал, что после падения Константинополя (кстати, его не спасла Флорентийская уния) Православие обрело территориальную основательность в России, что сейчас мы бы назвали стратегической глубиной. Последняя убедительно заявляла о себе в нашей истории, последний раз — в годы Великой Отечественной войны, на пике которой даже советская власть вынуждена была круто изменить свое отношение к РПЦ.
С В.Цымбурским во многом можно согласиться, но только не в том, что у России был выбор между Петровской модернизацией и освоением Сибири с превращением России в подлинную тихоокеанскую державу. Этот путь не был заказан и впоследствии, а без реформ Петра реально встал бы вопрос о существовании России, которая вполне могла стать материалом для территориально-политического переустройства Восточной Европы. О конечных целях романо-германской Европы в отношении России можно судить по планам нацистской Германии на случай победы в войне с Советским Союзом — выпихнуть нас за Урал с последующим «окончательным решением» славянского вопроса в Восточной Европе. Наши задачи на тихоокеанском направлении можно рассматривать как «незавершенку» прежней эпохи.
«Большая семерка» — не менее естественное образование, но исторически отживающее и неспособное к открытости, как это продемонстрировал недавний Квебекский саммит. Острые разногласия между его участниками нельзя отнести на счет личных качеств лидеров, прежде всего президента Трампа. Налицо конфликт нового поколения лидеров (парадоксально, что в этом ряду семидесятилетние деятели — наряду с Д.Трампом Дж.Корбин и Б.Сандерс) с прежними элитами, пока доказывающими неспособность выдвинуть из своей среды фигуры, отвечающие требованиям трансформационного момента, то есть уровня Ф.Д.Рузвельта, Дж.Кеннеди и Ш. де Голля. Вопрос стоит шире — о самоопределении Европы в качественно новой, высококонкурентной геополитической среде. Эпоха востребованности американского присутствия в делах Европы, насчитывающая ровно 100 лет, если вести отсчет от высадки американских войск в Европе в 1917 г., явно подходит к концу. Как этот уход будет разыгран — уже частный вопрос. Пока можно судить о том, что речь идет о разрушении многосторонней торговой системы (ВТО) и переводе отношений США со всеми, включая друзей и союзников в Европе, на двустороннюю «транзакционную» основу.
В этой связи и имеет смысл рассматривать вопрос о нашем отношении ко всей европейской архитектуре, прежде всего в сфере безопасности, унаследованной от периода холодной войны. Если судить по плодам, то это дерево не только поражено собственными недугами, но и стало причиной (материальной — на уровне институтов — основой) нынешнего многопланового обострения между Западом и Россией. Если США превращают НАТО в бизнес-проект по обеспечению расширенного спроса на свои обычные вооружения (а ВПК, согласно декабрьской Стратегии нацбезопасности Д.Трампа, отводится роль основного канала реиндустриализации Америки), то у России тем меньше оснований поддерживать с Альянсом формальные отношения. Другой момент — можно предполагать, что, хотя НАТО не может выйти из нынешнего антироссийского консенсуса в силу известной позиции ряда своих членов, в Альянсе вряд ли возможно формирование другого консенсуса — в сторону ужесточения антироссийской позиции.
При этом надо иметь в виду и то, что в рамках модернизации своих Вооруженных Сил Россия ненароком выиграла гонку обычных вооружений с Западом, который (а это относится и к США) в период после окончания холодной войны осуществлял свое военное строительство преимущественно как функцию экономики; в любом случае без расчета на перспективу вооруженного конфликта с равным по силе и технической оснащенности противником. Последнее обстоятельство и может стать поводом для навязываемой США европейцам гонки обычных вооружений, даже если Евросоюз примет решение о собственной военно-политической идентичности. На это потребуются годы, но главное, что, как показывают выкладки западных аналитиков (их в январе этого года по своей простоте выдал министр обороны Великобритании Г.Уильямсон), это не соответствовало бы новому характеру обычной войны — с ее упором на удары по критической инфраструктуре противника, что в силу используемых вооружений означает блицкриг, не оставляющий времени для многомесячного сосредоточения значительных сухопутных сил. Уже не говоря о том, что доступ к территории России реально возможен только через морские акватории (если не брать территорию Украины и Белоруссии), которые контролируются комплексами так называемых «вооружений, отрицающих доступ к ТВД», размещенных на Кольском полуострове, в Калининградской области, в Крыму и Сирии. К этому следует добавить крылатые ракеты морского базирования и предположительно стратегические носители в неядерном оснащении, базирующиеся в глубине российской территории.
Мы не можем произвольно жертвовать европейской частью своей комплексной (псевдоморфной, по Шпенглеру) идентичности и потому, что и до 1917 г., и особенно в советское время Россия в ее различных инкарнациях была каналом распространения европейской культуры и идей в восточном направлении (как США — в Западном полушарии). У нас нет и не может быть непримиримых противоречий ни с Америкой, ни с Евросоюзом. Другое дело, что к аналогичному выводу должны прийти и наши западные партнеры. Близки к этому американцы — ввиду акцента Администрации Трампа на конкуренцию «сильных, суверенных и независимых государств» (что, кстати, звучит как приговор Евросоюзу). Россия не раз заявляла, что конкуренцию никто не отменял. То же придется признать и в европейских столицах, что может потребовать смены не только правительств, но и политических элит, пока доказывающих свою политическую, интеллектуальную и нравственную несостоятельность. Мы всегда развивали отношения с Европой в двух форматах — многостороннем и двустороннем. Очевидно, что до прояснения ситуации в Европе для самих европейцев последний формат будет ведущим в ближайшее время. Ввиду естественного для любого эндшпиля ускорения развития событий, включая обвальные сценарии, у нас есть все основания быть оптимистами в отношении будущего наших связей с Европой.
Исследования В.Цымбурского имеют одно безусловно важное значение — они определяют естественные границы России на западе и юго-западе. Тогда наши соответствующие соседи попадают в категорию лимитрофов, которые должны служить не буфером, а средством сшивания общего пространства Евросоюза и России. В свете такого подхода не приходится особо беспокоиться за наши отношения как с Украиной, так и с Евросоюзом, каким бы ни было будущее тех и других партнеров.
Кризис на востоке Украины управляем благодаря наличию Минских договоренностей февраля 2015 г. Тему ооновского миротворчества в Донбассе вполне можно свести к общему знаменателю, имея в виду размещение сил по разъединению сторон вдоль линии соприкосновения. Такой подход решил бы проблему безопасности, не затрагивая целостности Минска‑2. Как показало совместное исследование германского Фонда Эберта и РСМД, особый статус двух регионов Донбасса вполне можно было бы «утопить» в общей федерализации Украины, чего жаждут все ее регионы, уставшие от бездарности центральной власти. Москве нетрудно будет признать, что европейская Украина, живущая по европейским нормам и стандартам, отвечает российским интересам. Другое дело, что Евросоюз должен будет гарантировать европейское поведение Украины, тем более что именно это является заявленной целью политики Брюсселя в отношениях с Киевом.
Россия не должна стремиться внести раскол в трансатлантические отношения. Как показали недавние Квебекский саммит «семерки» и встреча Трампа с лидером КНДР в Сингапуре, этот раскол уже существует как следствие преодоления президентом США сложившихся западных предрассудков и сохраняющейся приверженности им западных элит, в том числе американской. Партнеры Трампа по «семерке» полагали, что все будет по-старому в западном «концерте», и не поняли, что при наличии политической воли и готовности к компромиссам договориться можно обо всем. В Европе также не поняли, что проблемы развития, а с этим связано введение тарифов на сталь и алюминий, уже давно превратились для всех на Западе в вопрос национальной безопасности. Об этом писали не только американские политологи, но в этом же духе высказывались президент Б.Обама и его нач. ОКНШ адмирал М.Маллен. Получилось так, что именно англосаксы, и прежде всего США, со своим прагматизмом оказались в состоянии первыми на Западе резко сменить курс и обозначить направление движения для остальных.
Деловой/транзакционный подход был чужд советской политической культуре. Поэтому ни М.Горбачев, ни впоследствии Б.Ельцин не смогли ни о чем основательно договориться с западными столицами в плане новой архитектуры европейской безопасности. Достаточно сравнить с тем, как обошлись с Францией на Венском конгрессе, когда Парижу было достаточно отказаться от «личных завоеваний Наполеона», чтобы занять место в «европейском концерте». Советский Союз/Россия не только не потерпели военного поражения и «отпустили» Восточную Европу, но даже распрощались с трехвековым территориальным наследием в лице союзных республик. В ответ мы получили продолжение прежней политики сдерживания, правда, уже под предлогом хеджирования ввиду нашей «непростой» истории.
В свое время Екатерина Дашкова сказала австрийскому канцлеру Кауницу: «Великая империя, имеющая столь неиссякаемые источники богатства и могущества, как Россия, не нуждается в сближении с кем бы то ни было». Это говорилось в годы правления Екатерины II. Последующая история показала, что Россия не может позволить себе устраниться от европейских дел, хотя бы потому, что в этом случае континентальная Европа к западу от наших границ оказалась бы под контролем либо Франции, либо Германии. На участие России в европейских делах рассчитывали и в ведущих европейских столицах. Бисмарку, а он служил прусским посланником в Санкт-Петербурге и знал, о чем говорит, приписывается высказывание в том духе, что жить так, как живет Россия, невозможно, но раз Россия существует, значит, она находится под покровительством Господа Бога. Соглашаясь с Чаадаевым, германский канцлер в то же время занимает позицию Тютчева в вопросе о предназначении России.
В целом приходится признать на основе опыта последних 25 лет, что политически заряженная картина континента, перенесенная из эпохи холодной войны, неизбежно воспроизводит конфронтацию и напряженность. Необходим широкий политический маневр в плане нашего участия в многосторонних структурах европейской и евроатлантической политики. Здесь открывается обширное пространство для исторического творчества. Совершенно бесперспективно мириться с тем, что доказало свою бесплодность, более того контрпродуктивность. Мы не можем продолжать прямо или косвенно легитимизировать те или иные форматы, которые без нашего участия теряют смысл своего существования или попросту провисают в отсутствие коммуникативного действия с Россией. В этом, похоже, состоит главная дилемма нашей европейской политики.
Разрушительная работа со стороны Атлантики уже идет полным ходом. Речь идет о подлинно революционном действии, а не постмодернистской риторике: фразу А. Скарамуччи об Америке как «абсолютном потрясателе основ» (ultimate disruptor) на Западе предпочли пропустить мимо ушей. Еще предстоят саммит НАТО и вступление в силу антииранских санкций. Почему бы и нам не начать продираться сквозь многосторонние «дебри» Европы, чтобы стимулировать Евросоюз к самоопределению в региональной и глобальной политике, в том числе взять на себя ответственность за собственную безопасность? Это будет содействовать утверждению трезвого, реалистичного, очищенного от идеологических предрассудков подхода к отношениям с Россией, без которой и вопреки которой не может быть обеспечена европейская безопасность. Малые шаги — это хорошо, но какие? Да и время слишком эпохальное. И разве мы не занимались малыми шагами, включая Основополагающий акт и Римскую декларацию, все это время?
Без России также вряд ли возможно позитивное разрешение дилеммы между европейской Германией и германской Европой. Продолжать решать эту проблему посредством НАТО становится накладно для самих европейцев, уже не говоря о том, что мы живем совершенно в другую эпоху — Альянс создавался в 1949 г. Многое, если не все, зависит от самих немцев. Хабермас, наверное, не без оснований считает, что элита «не в силах понять, что граждане ФРГ в большинстве своем способны идти на значительные уступки в их личном интересе», чтобы спасти европейскую интеграцию. Не хватает лидерства.
Европу надо спасать от многих напастей, в том числе от «новой холодной войны». Было бы неплохо определиться в нормативном ключе и с итогами прошедшей холодной войны. Все это говорит в пользу необходимости созыва Мирной конференции по типу Гаагских, проведенных в канун Первой мировой войны по российской инициативе, которая, кстати, говорит о нашей идентичности больше, чем все последние изыскания на эту тему.
РСМД. 19.06.2018