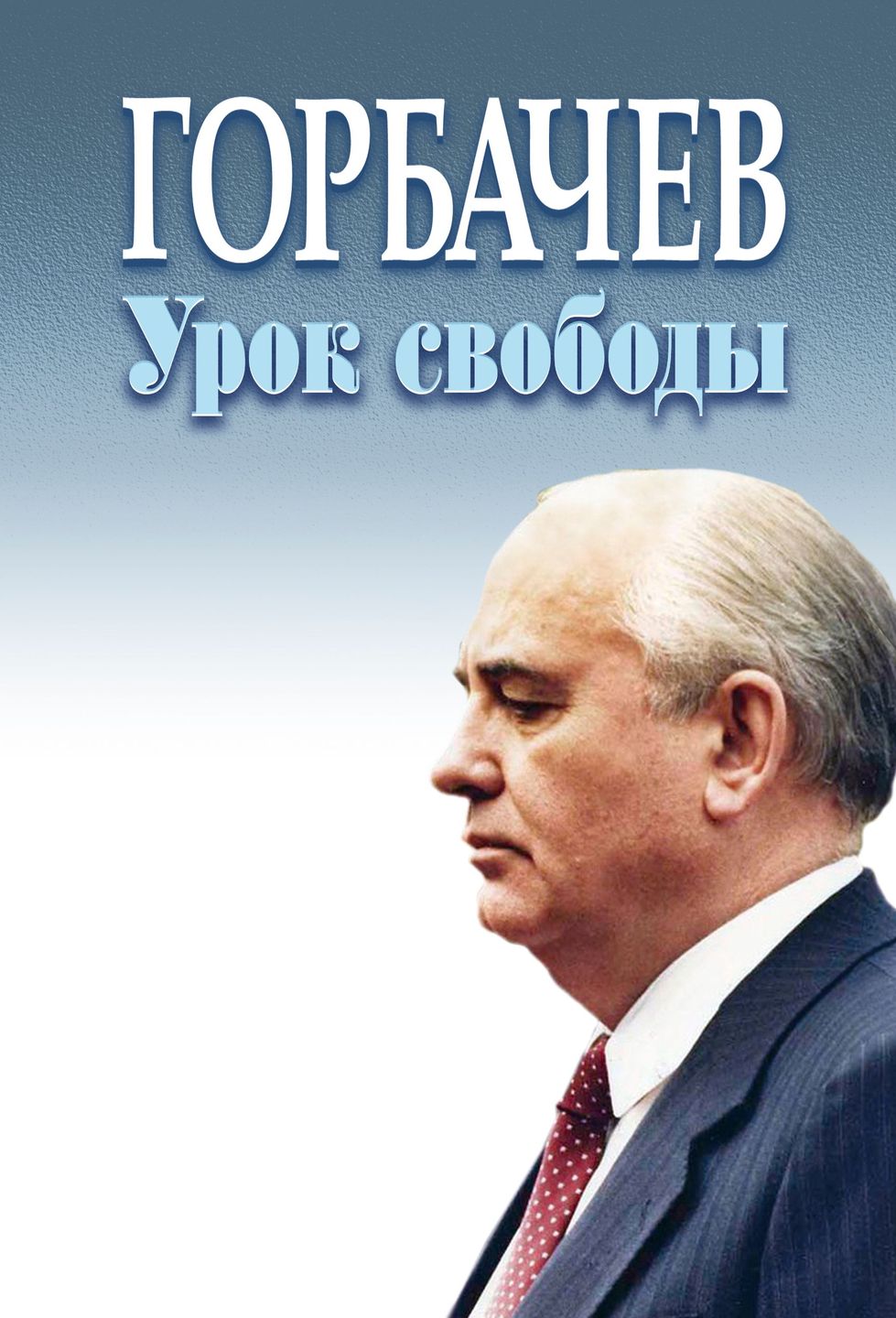Единый учебник истории ЕС и своя правда Восточной Европы
Георгий Касьянов
Историческая политика может быть наиболее ранним индикатором появляющихся и растущих противоречий между Западной и Восточной Европой. Расхождения в оценке прошлого могут сигнализировать о расхождениях в неких базовых ценностях, тем более с учетом перепроизводства истории в регионе. В конце концов, одним из первых сюжетов, обозначивших грядущий распад Советского Союза, тоже было разное прочтение истории.
Когда речь заходит о трудностях продвижения европейской интеграции на восток, то чаще всего вспоминают про экономику, про политические институты, про коррупцию. Гораздо меньше внимания уделяется вопросам понимая европейской истории, хотя они способны спровоцировать не менее серьезные проблемы в международных отношениях.
Недавний пример с поправками в польский закон об Институте национальной памяти – очередное тому подтверждение. Новые поправки, вызвавшие острую реакцию многих стран от Украины до США и Израиля, с одной стороны, запретили любые публичные упоминания об ответственности поляков за Холокост, с другой – поставили деяния «украинских националистов» на одну доску с преступлениями нацистского и коммунистического режимов.
Первое является вызовом общеевропейской идее коллективной памяти о Холокосте как маркере общей ответственности за деяния прошлого – для недопущения их повторений в будущем. Второе совершенно непереносимо для той части украинского общества, которая пытается вывести исторический миф об Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии на уровень общенационального символа. При этом обе эти организации признаны в Польше исполнителями геноцида поляков и имеют сложную историю отношения к евреям.
Упомянутый случай далеко не единичный в истории Новой Европы, которая возникла после расширения НАТО и Евросоюза за счет стран, до конца 1980-х годов пребывавших за железным занавесом. Его можно рассматривать как один из примеров тенденции, связанной как с некими общими особенностями этого разноликого региона, так и со спецификой его интеграции в Евросоюз.
В поисках общей исторической платформы
Одна из таких особенностей – повышенное внимание к вопросам прошлого, их зримое и ощутимое присутствие в настоящем. Говоря о Балканах, Черчилль заметил, что они производят больше истории, чем могут переварить. Это вполне применимо ко всей территории за линией от «Штеттина до Триеста», очерченной тем же автором в его знаменитой речи 1946 года.
В XIX веке, в период становления наций и национальных государств, история и коллективная память играли в Восточной Европе важную роль как в формировании современной коллективной идентичности, так и в политической мобилизации – независимо от наличия или отсутствия собственной государственности. Как правило, это была история титульного этноса, этнонациональный нарратив, утверждающий не только особенность, неповторимость биографии сообщества, но и его особую роль в истории, прежде всего в сопоставлении с соседями.
В период коммунизма этот нарратив властью не приветствовался. Но после 1989–1991 годов национальная история в виде этнонационального нарратива и сопутствующая ей форма коллективной памяти вернулись к жизни. Они легитимировали вновь обретенную национальную суверенность. Более того, история использовалась как доказательство принадлежности к Европе, именно той Европе, контуры которой совпадали с границами Евросоюза.
В национальных исторических нарративах наряду с продвижением идеи самобытности, уникальности собственной истории ощутимо присутствовал тезис о единстве национальной истории с европейской. Помимо этого, реставрация классического национального нарратива была способом отказа от коммунистического прошлого, от наследия, которое представлялось чем-то чуждым, нехарактерным, навязанным извне.
Обращение к прошлому в целях самоутверждения в настоящем было вполне легитимной и естественной стратегией движения к объединенной Европе. Своя суверенная история была необходимым элементом субъектности. Однако это обращение к прошлому ради светлого настоящего и еще более светлого будущего таило в себе зародыш будущих конфликтов.
Если в «украденной Европе» отстраивали свое национальное прошлое, то в Евросоюзе искали вариант прошлого транснационального, общеевропейского с помощью двух взаимодополняющих стратегий.
Одна – продвижение идеи общеевропейской истории, некое историческое обоснование евроинтеграции. Тут можно упомянуть целый ряд интеграционных проектов – от создания в начале 1990-х европейской ассоциации преподавателей истории EUROCLIO, поддерживаемой Советом Европы, до попыток написать некий общеевропейский учебник (European Schoolbook), от весьма дорогого Дома европейской истории в Брюсселе до финансируемой Еврокомиссией программы «Европа для граждан», содержащей компонент «Активная память», цель которой – «поддержка действий, дискуссий и размышлений на тему европейской гражданственности и демократии, общих ценностей, общей истории и культуры… сближения Европы с ее гражданами через продвижение ее ценностей и достижений, с одновременным сохранением памяти о ее прошлом».
Вторая стратегия – внедрение на уровне политических практик идеи общей ответственности европейцев за прошлое во имя настоящего и будущего. Центральным символом этой стратегии был выбран Холокост. Старая Европа договорилась, что признание Холокоста символом общей ответственности за мрачные страницы прошлого и память об этой трагедии будут одновременно гарантией политики never again в самом широком контексте, с предохранителями от ксенофобии, расизма, нетерпимости, национальной вражды – всего того, что привело к Второй мировой войне.
Существенным фактором в выборе этой идеи были события на Балканах, не только добавившие в европейскую историю кошмарные примеры геноцида, но и показавшие необходимость вовлечения этого региона в сферу контроля и предупреждения конфликтов (что было равнозначно вовлечению в структуры НАТО и Евросоюза).
Так или иначе, признание Холокоста важным системообразующим символом исторической политики стало неким объединяющим стандартом. Можно достаточно уверенно утверждать, что существует общеевропейская историческая политика в области увековечения памяти о Холокосте, призванная сформировать наднациональное сообщество памяти. Это Международный день памяти Холокоста (27 января, день освобождения узников лагеря смерти в Аушвице), мемориальные комплексы, специализированные музеи.
Сюда же можно отнести и Международную рабочую группу по международному сотрудничеству в области преподавания, изучения и увековечения Холокоста, созданную в конце 1990-х и пользующуюся высоким политико-бюрократическим статусом. Свои цели организация определяет как воспитательно-образовательные – изучение и преподавание истории Холокоста, и политические – борьба с ксенофобией, расизмом и антисемитизмом. Например, в 2010–2014 годах альянс профинансировал 93 проекта в 42 странах мира, из них 29 – в Европе. Основные целевые группы – представители правительственных структур и негосударственных организаций, преподаватели и представители органов управления образованием.
Таким образом, всеевропейская историческая память о Холокосте должна была стать некоей объединяющей формой культурной памяти, общей валютой на общем рынке символического капитала.
Восточная Европа: своя правда
Описанные выше тенденции общеевропейской исторической политики должны были распространиться на те страны, которые готовились к «возвращению в европейскую семью». И если их подключение к «общеевропейской истории» в принципе совпадало с умонастроениями их элит и обществ, то отношение к Холокосту как объединяющему символу (что было, по выражению Тони Джадта, «пропуском в Евросоюз») оставалось более сложным.
Заметим, что у вновь прибывающих, которые на самом деле считали себя репатриантами, в общем-то не было выбора. Признание Холокоста хоть и не было официальным элементом conditionality, рассматривалось как важный атрибут, галстук и пиджак, без которого в приличный клуб попасть было невозможно.
Не зря именно Польше накануне вступления в Евросоюз пришлось пережить одно из самых глубоких потрясений, связанных с переоценкой собственного прошлого. Общенациональная дискуссия о массовом уничтожении еврейского населения местечка Едвабне летом 1941 года самими же поляками закончилась признанием этого горького факта и попытками – когда искренними, когда вынужденными – пересмотреть собственный образ храбрых борцов за свободу и вечной жертвы соседей – образ, весьма популярный в регионе. В начале 2000-х годов польским элитам и обществу хватило мужества и терпения признать соучастие поляков в Холокосте и таким образом доказать свой статус европейской нации.
После вступления в европейский клуб блудных детей в середине 2000-х в Европе возникла кардинально иная ситуация, в которой историческая и ментальная география стали играть неожиданно важную роль. Старая Восточная Европа стала неотъемлемой и формально равноправной частью Европы. На восточных границах возникла Новая Восточная Европа с причудливыми гибридными политическими режимами и своими культурными особенностями. Более того, границы этой Новой Восточной Европы теперь вошли в непосредственное соприкосновение с западными границами России, где как раз в это время в сознании правящего класса воскресла идея особого пути России.
Этот новый расклад весьма специфическим образом сказался на всем регионе. В общем комплексе проблем, связанных с притиркой новых и старых жильцов, одной из самых громких стало прошлое и отношение к нему. Новые члены клуба не просто стали осваиваться в новых стенах, но и принесли с собой собственный антиквариат, намереваясь расставить его по своим интересам, вкусам и предпочтениям.
Как вскоре выяснилось, эти вкусы и предпочтения далеко не всегда совпадали с уже установившимися клубными традициями и правилами. Некоторым неофитам Новой Европы пришлось пережить кризис идентичности, связанный с разными факторами: необходимостью обучаться новым правилам политического общежития и политической культуры, перетеканием квалифицированной рабочей силы в более богатые страны, частичной утратой суверенитета, связанной с делегированием ряда функций общеевропейским структурам. В силу культурно-исторических особенностей региона этот кризис идентичности частично был решен за счет обращения к корням: к этническому национализму, к славному и одновременно трагическому прошлому.
Это обращение поначалу имело своего рода оправдательный характер. Отставание, проблемы экономического, социального и культурного характера объяснялись долговременным пребыванием под железной пятой коммунизма. Эта пояснительная стратегия, унаследованная от 1990-х, получила новое звучание именно в контексте исторической политики. Политические и культурные элиты бывшей Восточной Европы теперь не просто объясняли, они требовали признания своих стран жертвой коммунизма, фактически претендуя на особый статус.
Более того, они в некотором смысле противопоставляли себя бывшей Старой Европе: она ведь пострадала только от нацизма, а мы – двойная жертва: и нацизма, и коммунизма.
К равенству нацизма и коммунизма
«Прощание с коммунизмом» накануне и во время вступления в Евросоюз предполагало признание общеевропейскими институтами масштабов потерь и замедление развития, объясняющих отставание от стандартов Западной Европы. Такое признание состоялось, более того, Западная Европа готова была помочь братьям словом и делом.
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 27 июня 1996 года фактически стала программой «декоммунизации», включающей в себя рекомендации относительно люстраций, реституции, реабилитации жертв репрессий, открытие архивов репрессивных органов и «трансформацию ментальностей (трансформацию сердец и умов), основной целью которой является устранение страха ответственности, устранение неуважения к разнообразию, крайнего национализма, нетерпимости, расизма и ксенофобии, являющихся частью наследия старых режимов».
Впрочем, независимо от намерений разных сегментов восточноевропейских обществ, отстаивающих особость региона в связи с травмой, нанесенной им коммунистическим тоталитаризмом, ко времени расширения Евросоюза на восток возник своеобразный конфликт между уже устоявшимся вариантом общеевропейской коллективной исторической памяти и новой восточноевропейской моделью, которую нельзя было не признать. Вопрос о Восточной Европе как о жертве коммунизма был вынесен на общеевропейскую повестку дня.
Именно в 2005 году общеевропейские институции вновь после середины 1990-х озаботились «коммунистическим тоталитаризмом», и эта озабоченность была вызвана отнюдь не академическими интересами.
Четкие идеологические рамки были установлены с самого начала. Шведский правозащитник Горан Линдблад, открыто заявлявший о своих антикоммунистических убеждениях и негативном отношении к «дьявольской Советской империи», был назначен докладчиком Совета Европы по «преступлениям коммунистических тоталитарных режимов». Его доклад стал основой для знаменитой резолюции ПАСЕ «Необходимость международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов» (25 января 2006 года).
Резолюция содержала ряд формулировок, важных как для бывшей Восточной Европы, так и для стран Новой Восточной Европы (членов Совета Европы), переместившейся на восток от новой границы ЕС. Во-первых, коммунистическим партиям и другим политическим организациям, возникшим на их месте, предлагалось сделать переоценку деятельности их предшественников в духе резолюции, где слово «преступление» было центральным. Во-вторых, резолюция указывала на то, что деяния тоталитарных коммунистических режимов в отличие от преступлений нацизма не стали предметом рассмотрения международных [судебных] органов.
Важной частью текста и контекста документа было упоминание преступлений коммунизма наравне с преступлениями нацизма – здесь мы находим исходный пункт движения к внедрению на уровне общеевропейской исторической политики идеи об уравнивании двух тоталитаризмов: нацистского и коммунистического.
С точки зрения Брюсселя такая идея, видимо, имела интеграционную перспективу: с одной стороны, травматическое прошлое Восточной Европы эпохи коммунизма признавалось как важная часть общеевропейской культурной памяти, с другой – привычная для Западной Европы модель репрезентации прошлого под лозунгом «никогда снова» становилась частью культурной памяти бывшей Восточной Европы.
Кроме того, это была уступка новым членам ЕС. В 2007 году, когда в Европарламенте шли дебаты о принятии общеевропейского закона, вводящего уголовную ответственность за отрицание или тривиализацию геноцида и преступлений против человечности, представители стран Балтии требовали аналогичных мер за отрицание преступлений коммунистического режима, но получили отказ. Дальнейшая история с уравниванием коммунизма и нацизма выглядит как компенсация за этот отказ.
В январе 2008 года в Европарламенте была создана неформальная группа депутатов с красноречивым названием «Объединенная Европа – объединенная история». В группу вошли представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Венгрии. В заявлении группы и резолюции, подписанной еще 50 евродепутатами, говорилось, что с воссоединением Европы возникла и необходимость воссоединения истории и памяти. Конструирование Европы, говорилось в заявлении, до 2004 года происходило без знаний о травматической истории Восточной Европы под властью коммунизма. Этот недостаток нужно исправить в объединенной Европе.
В июне 2008 года была обнародована Пражская декларация «О европейском сознании и коммунизме», повторившая тот же тезис: Европа мало знает о преступлениях коммунизма и не осознает их масштабов, это незнание является причиной перекосов в европейском сознании, непонимания ужасов коммунизма, пережитых Восточной Европой. Разное толкование и оценка коммунизма по-прежнему делит континент на Восток и Запад, преступления коммунизма еще ждут исторической, моральной, политической и юридической оценки. «Европа не будет объединенной, – говорилось в декларации, – если она не сможет воссоединить свою историю, признать коммунизм и нацизм единым наследием и провести честное и исчерпывающее обсуждение всех тоталитарных преступлений прошлого столетия».
Авторы декларации указывали на необходимость осознания общеевропейской ответственности за преступления коммунизма – своего рода реплика ответственности за «украденную Европу», идеи, сформулированной Миланом Кундерой незадолго до бархатных революций. В качестве памятной даты, символизирующей тождественность нацизма и коммунизма, предлагалось 23 августа – день подписания пакта Молотова – Риббентропа. Этот день должен был стать днем памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, подобно тому как 27 января уже было общеевропейским Днем памяти жертв Холокоста.
В сентябре 2008 года Европарламент опубликовал декларацию, призывающую поддержать эту идею. Правда, название памятного дня было изменено: День памяти жертв сталинизма и нацизма. Таким образом, один из тоталитаризмов получил четкий адрес прописки – Москва, откуда немедленно последовали протесты. Декларацию поддержала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Вильнюсском саммите 3 июля 2009 года.
18 марта 2009 года в Европарламенте состоялись публичные слушания «О европейском сознании и преступлениях тоталитарного коммунизма: 20 лет спустя», приуроченные к двадцатой годовщине бархатных революций. Первая сессия слушаний называлась «Наша общая история: общая европейская платформа». Из 19 заявленных участников 14 были из стран Восточной Европы. Через две недели, 2 апреля 2009 года, Европарламент принял резолюцию «О европейском сознании и тоталитаризме», в которой предлагалось создать Платформу европейской памяти и сознания с целью «поддержки единения и сотрудничества между национальными исследовательскими институтами, специализирующимися на истории тоталитаризма», и для создания всеевропейского центра/мемориала жертв всех тоталитарных режимов.
После ряда уже ставших ритуальными мероприятий (конференций, докладов, новых деклараций) и согласований в Брюсселе Платформа европейской памяти и сознания была учреждена 14 октября 2011 года на саммите премьер-министров Вишеградской группы в Праге. По состоянию на ноябрь 2015 года Платформа включала 51 организацию (как государственные, так и общественные) Европы и Северной Америки.
Таким образом, ландшафт общей европейской памяти пополнился темой преступлений коммунизма. Однако при всем уважении к чаяниям и устремлениям своих новых коллег по Евросоюзу идея представлять бывшую Восточную Европу как жертву двойного удара – со стороны нацизма и коммунизма – все-таки не стала объединяющей и общеевропейской. Коммунизм был сведен к сталинизму, а практика уравнивания нацизма и коммунизма осталась уделом борцов за историческую справедливость в странах, где коммунизм был представлен как нечто чужеродное, навязанное извне.
Соревнование жертв ограничилось национальными чемпионатами. Бывшей Восточной Европе удалось привнести свою тему, но не в том виде, в каком хотелось бы. Здесь возникла первая трещина во взаимоотношениях, возможно, не очень важная для старожилов ЕС, но весьма деликатная для новосельцев.
Трудности перевода с исторического
Не менее деликатной темой стало сосуществование национальных историй с общеевропейскими сюжетами, вроде бы признанными на этапе вхождения.
Вписывание европейского понимания преступлений нацизма в общую картину страданий собственной нации заставило вспомнить и о неудобных эпизодах прошлого, в том числе о Холокосте и соучастии в нем.
Внедрение уже установившегося в Западной Европе стандарта памяти о Холокосте в Восточной Европе, которое было одним из негласных условий воссоединения с Европой, было и остается достаточно сложным. Это противоречит каноническому историческому мифу большинства восточноевропейских наций – мифу главной жертвы (империй, тоталитарных режимов, враждебного Другого). Появление «парадигматического геноцида» (А.Ассман) спровоцировало «соревнование жертв», особенно в контексте истории ХХ столетия: продвижение образа жертвы «двойного геноцида» (нацистского и коммунистического) столкнулось с необходимостью легитимации в собственном пространстве памяти уже признанного во всей Европе сакрального символа памяти.
Кроме того, требовалось признать ту или иную степень соучастия в Холокосте, что несколько омрачает образ главной жертвы – вечного борца за свободу и демократию. Некоторое неудобство в деле признания и распространения общеевропейской модели памяти о Холокосте стало общей чертой всей Восточной Европы, где, по мнению историка Николая Копосова, масштабы уничтожения евреев оказались столь значительными именно из-за того, что местное население поддерживало политику геноцида евреев.
Сотрудничество с нацистами стало неудобным сюжетом не только в контексте Холокоста. Во многих странах Восточной Европы борцы с коммунистическим режимом и его же жертвы одновременно становились то сотрудниками институтов и участниками военных формирований Третьего рейха, то членами организаций, слишком уж родственных итальянским фашистам и немецким нацистам. Более того, даже бойцы антинацистского сопротивления, иконы этнонационального канона, оказались причастными к весьма неаппетитным действиям в прошлом, связанным с этническими чистками, – как на Балканах, так и в Центральной Европе.
Уже рутинная для этого региона практика уравнивания нацизма и коммунизма в своей основе порождала асимметрию в исторической политике, которую невозможно не заметить: с осуждением преступлений нацизма в свое время вполне успешно справились коммунистические режимы. Возникала парадоксальная ситуация, когда приходилось фактически воспроизводить риторические формы осуждения нацизма, уже сформулированные «тоталитарным коммунистическим режимом» (правда, последний замалчивал Холокост), для того чтобы продвинуть главную задачу – «осуждение коммунизма».
Наконец, уравнивание нацизма и коммунизма создавало неудобства и для представителей Западной Европы, поскольку СССР был участником антигитлеровской коалиции: тут речь шла не только о моральном долге, но и о необходимости признавать ответственность за то послевоенное переустройство мира, в котором Восточная Европа оказалась под «пятой коммунизма».
Идея «коммунизм = нацизм», лоббируемая представителями «украденной Европы» на высшем политическом уровне, вызвала протесты некоторых еврейских организаций. В националистических нарративах Восточной Европы (как и в нацизме) антикоммунизм традиционно, еще с межвоенных времен соседствовал и сливался с антисемитизмом. Лозунг «жидокоммуны» был популярен не только в пропаганде Третьего рейха.
В первое десятилетие после расширения Евросоюза сложилась своеобразная группа лидеров, все более решительно конфликтующих с общеевропейскими обязательными правилами поведения в сфере исторической памяти: Венгрия, Польша и, возможно, менее выразительно – Литва. Именно они, выполнив в национальной политике памяти формальные условия, необходимые для вступления, вскоре начали ревизию прошлого, основанную на этнонациональном нарративе. И если поначалу эти действия выглядели просто как своего рода защита культурного суверенитета, то со временем они приобрели наступательный характер.
Смысл исторической политики в этих странах в большей или меньшей степени сводился к культивированию этнонационального нарратива памяти, который в его радикальном исполнении противоречил принципам предлагаемой Евросоюзом общей истории. Прямо или косвенно это было связано с интерпретациями Холокоста.
В Литве центральной идеей была формула двойного геноцида, пережитого литовцами от нацистов и коммунистов. Она получила институционное воплощение в музее жертв геноцида в Вильнюсе. Холокост как парадигматический пример геноцида не отрицается, но и не слишком приветствуется, в первую очередь потому, что герои сопротивления нередко оказываются коллаборантами нацистов.
Общественная организация, занимающаяся историей Холокоста в Литве, фактически оказалась в странной оппозиции к официальной исторической политике страны. Публикация книги Руты Ванагайте «Наши», о соучастии литовцев в уничтожении евреев, спровоцировала громкий скандал, показавший неприятие центральной темы книги значительной частью литовского общества.
В Венгрии, отметившейся грандиозным по размерам музеем тоталитаризма (Дом террора), где центральная тема – преступления коммунизма, тема Холокоста также стала предметом своеобразной радикализации исторической политики. В центре Будапешта появился монумент, представляющий Венгрию жертвой нацизма. Тема союзничества страны с Третьим рейхом оказалась, мягко говоря, непопулярной, как и соучастие власти и граждан в Холокосте. В результате напротив официального монумента возник неофициальный – напоминающий о Холокосте.
И последний пример – тот, с которого начинается статья, – Польша. Пример экономического успеха и конфликта с «новой родиной». Последние несколько лет – сплошная череда громких и не очень скандалов, связанных с нарушением правил европейского общежития. Темы разные: наступление на свободу слова, попытки ограничить независимость судебной власти и – историческая политика.
Недавняя история с поправками – последствие радикализации этнонациональной версии прошлого. Другие последствия такой радикализации: все более активные попытки пересмотреть интерпретацию событий в Едвабне и в целом историю Холокоста в Польше, травля историка Яна Гросса, смена руководства и концепции нового музея Второй мировой войны, война памяти с украинскими правыми, вышедшая на уровень межгосударственных отношений, рост ксенофобии и, наконец, уже открытый конфликт с общеевропейской политикой памяти.
Конечно, историческая политика не единственная сфера турбулентности в отношениях «равных с равными» после 2004 года. Хватает других, особенно остро обозначившихся в период миграционного кризиса. Однако именно она может быть наиболее ранним индикатором появляющихся и растущих противоречий. Расхождения в оценке прошлого могут сигнализировать о расхождениях в неких базовых ценностях, тем более с учетом перепроизводства истории в регионе. В конце концов, одним из первых сюжетов, обозначивших грядущий распад Советского Союза, тоже было разное прочтение истории.
Публикация подготовлена в рамках проекта «Европейская безопасность», реализуемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Великобритания)
Московский Центр Карнеги. 12.04.2018