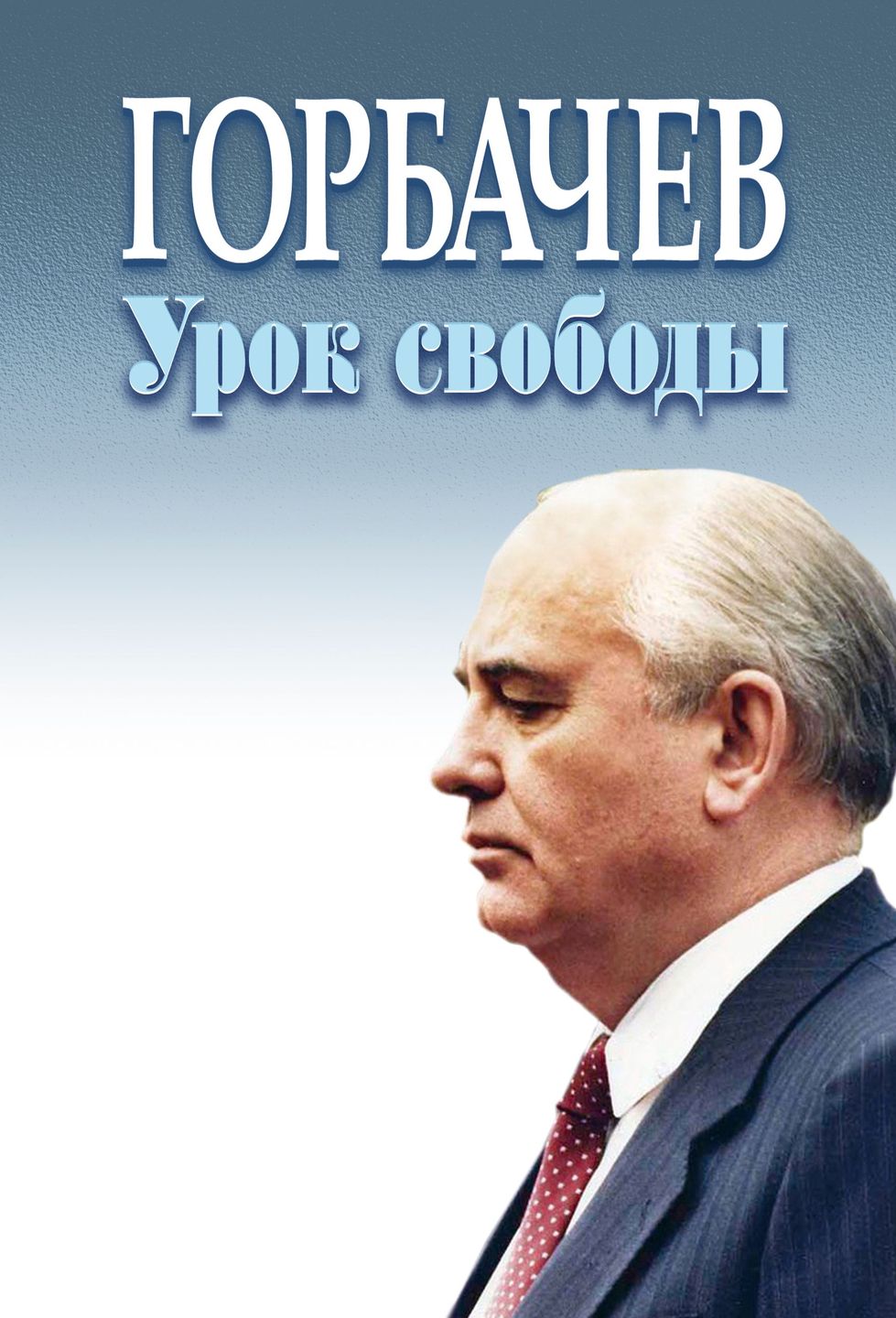Оценка перспектив региональной интеграции в Центральной Азии
Рустам Махмудов
Ветер перемен, задувший в политике Узбекистана после избрания президентом страны Шавката Мирзиеева в декабре 2016 года, вновь актуализировал вопрос интеграции стран Центральной Азии (ЦА). Эта тема, уже много лет практически не присутствовавшая в региональной повестке дня, сегодня переживает своего рода ренессанс. Она активно обсуждается на различных аналитических площадках, и, что самое важное, постоянно подпитывается событийным материалом в виде различного рода официальных встреч и конференций, заявлений и инициатив лидеров стран ЦА, а также быстрыми темпами изменений в отношениях Узбекистана с его региональными соседями.
Если вкратце охарактеризовать нынешнюю ситуацию в регионе, то она представляет собой своеобразное состояние позитивных ожиданий. Однако смогут ли эти ожидания перерасти в реальные интеграционные проекты на официальном уровне, пока невозможно точно сказать. Возможно, первым шагом к этому станет встреча глав стран ЦА в Казахстане в канун праздника Навруз в марте 2018 года, идею проведения которой предложил Шавкат Мирзиеев, а в свою очередь Астана поддержала.
В то же время, если страны ЦА все же решатся на запуск проекта региональной интеграции, то им необходимо будет, прежде всего, выявить и проанализировать причины провала первой интеграции (1990-е гг. - начало 2000-х гг.), а также более четко сформулировать базовые цели интеграции, которые должны будут наполнить проект долговременным смысловым и практическим содержанием.
Как известно, страны Центральной Азии в период с 1990-х годов до 2005 года демонстрировали попытки региональной интеграции, о чем наглядно говорит создание таких структур как «Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество» (ЦАЭС) и Организация «Центрально-Азиатского Сотрудничества» (ЦАС). Два президента — Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев дали старт интеграции, подписав 10 января 1994 г. в Ташкенте «Соглашение об общем экономическом пространстве». Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана присоединились к данному процессу несколько позже. Лидеры Узбекистана и Казахстана также подписали «Алма-Атинскую декларацию» в 1997 году с намерением создать Зону свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Эта декларация затем была реализована в виде договора, подписанного 8 сентября 2006 года в Семипалатинске. Кроме того, были созданы некоторые координирующие органы и подписано множество других документов, к примеру, в рамках ЦАЭС, было подписано более 160 многосторонних документов о сотрудничестве и принято свыше 50 проектов в области экономики, но они в конечном итоге не привели к созданию единого глубоко интегрированного пространства.
Почему провалилась первая попытка региональной интеграции, что привело к тому, что после 2005 года эта тема практически потеряла свою актуальность?
Первое, что бросается в глаза, это имевшееся на тот момент противоречие между логикой государственного/национального строительства, с одной стороны, и логикой полноценной региональной интеграции с другой. Под «полноценной региональной интеграцией» в данном случае понимается широкая интеграция с делегированием части полномочий национального государства наднациональным органам, как это имело место на примере Европейского Союза.
Все 1990-е годы прошли в Центральной Азии под знаком создания основ новых независимых государств. Это было очень сложное время, поскольку у новых политических групп и лидеров не было опыта построения независимых систем государственного управления. Одной из критически важных задач, которую они должны были решить, было скорейшее создание государственных идеологий, которые стали бы своего рода парадигмой, определяющей особенности государственного и национального строительства, мировоззрение элиты и общества, и цели долгосрочного развития.
Дело в том, что распад Советского Союза привел к краху коммунистической идеологии с ее марксистским языком и понятийным аппаратом, благодаря которому элита и общество могли более или менее адекватно описывать и объяснять политическую, экономическую и социальную реальность. В результате вхождения этого языка в кризис в период позднего СССР и его последующее исчезновение оставило население стран Центральной Азии в состоянии «понятийного вакуума», который постарались заполнить идеологи радикального ислама, национализма, различные секты. Вся эта идеологическая конкуренция могла обернуться угрозой масштабной дестабилизации, что наглядно показали Ошские события 1990 года и гражданская война в Таджикистане (1992-1997 гг.).
Поэтому управленческой элите стран ЦА пришлось в спешном порядке начать разработку национальных идеологий и создание политических наций. Несмотря на все имевшиеся различия и специфику стран, элиты всех пяти государств следовали в целом схожей логике по созданию идеологических конструкций. В этих конструкциях присутствовали три или четыре компонента — идеи национального возрождения, принципы многонационального и многоконфессионального общества, ценности традиционного ислама и элементы либеральной идеологии.
Выбор элит в пользу подобных гибридных конструкций был продиктован, в первую очередь, необходимостью создания прямых концептуальных оппозитов радикальным типам мировоззрений в развернувшейся тогда борьбе за умы и сердца. Речь идет, в частности, о таких оппозициях как «идеи национального возрождения с опорой на принципы многонационального и многоконфессионального общества» versus «крайние формы национализма» и «традиционный умеренный ислам» versus «радикальный ислам».
Существуют мнения, что после обретения независимости новые элиты должны были сразу приступить к полномасштабному внедрению либерализма и ценностей либеральной демократии вместо того, чтобы создавать гибридные конструкции. Однако, даже если признать правоту этого мнения, тем не менее, все же невозможно однозначно утверждать, что идеология либерализма тогда могла выступить в роли эффективного концептуального оппозита радикальному национализму и радикальному исламу. Особенность ситуации в тот исторический период состояла в том, что либеральные идеи были понятны весьма узкой группе населения и либерализм не был укоренен в широком общественном сознании. В отличие от либерализма, этнические, племенные и религиозные идеи опирались на почву, на своего рода «коллективное бессознательное», и поэтому они были понятны и близки значительной части коренного населения, что и показали события начала 1990-х годов.
Ренессанс этих почвеннических идей в свою очередь породил острейшую проблему, связанную с тем, что одновременно с выходом на свет некогда вытесненных в советское время архетипов стал разворачиваться процесс их радикализации. Карл Юнг когда-то блестяще показал, чем обернулось для Германии 1930-х годов извлечение из бессознательного древних национальных архетипов Вотана и Зигфрида, и их последующая радикализация. Уже в современное время примером стали кровавые события, связанные с распадом Югославии. Нечто подобное могло ожидать и многонациональную Центральную Азию с ее сложной структурой расселения народов, и термин «Евразийские Балканы», некогда данный Збигневым Бжезинским этому региону, на момент после распада Советского Союза довольно точно характеризовал ситуацию. В связи с этой угрозой новым управленческим элитам и традиционному духовенству необходимо было как можно быстрее сдержать радикализацию почвеннических идей, поставить их под контроль, а сделать это эффективно можно было в основном посредством управляемой трансформации оживавших архетипов в более умеренные формы.
Тем не менее, элементы либерализма и либеральной демократии с ее ценностями, принципами и институтами все же были включены в новые гибридные идеологические конструкции, и это объяснялось прагматическими причинами. Победивший в холодной войне, Запад стал ведущей экономической, военной, технологической и научной силой мира, и поэтому странам ЦА необходима была определенная общая платформа для диалога с ним, чтобы получить доступ к западным инвестициям, рынкам и знаниям.
Вместе с тем нужно отметить, что включение элементов либерализма ни в коем случае не означало автоматически полной имплементации и соблюдения его ценностей во всех странах Центральной Азии. Наоборот, в некоторых случаях даже можно было говорить о появлении своего рода симулякров либеральной демократии и экономики, что, в свою очередь, породило устойчивое пространство для противоречий с Западом. Было вполне закономерно, что ведущие западные страны и организации стали требовать полного соблюдения и обеспечения различных видов свобод, раз уж страны ЦА приняли правила, по которым играют на западном идеологическом, политическом и экономическом поле.
В целом, нужно признать, что идеологические конструкции, созданные в большинстве стран ЦА, помогли им преодолеть начальный период неопределенности, и во многом заложили модели и культуру управления в их внутренней и внешней политике.
Если вкратце охарактеризовать модель управления, основанную на гибридной идеологической конструкции, то в своем идеальном виде она представляет искусство обеспечения баланса между всеми компонентами конструкции и не допущения чрезмерного смещения влияния в сторону одного из них. Появление подобного смещения создало бы прямые предпосылки для плохо контролируемой трансформации компонента в его более радикальную форму, например, традиционного ислама в радикальную версию, с последующим подавлением им других компонентов конструкции, что вело бы к угрозе внутренней стабильности и вынуждало бы власти идти на открытое применение силы.
Обеспечение эффективного функционирования подобной модели требует наличия «сильного лидера», сильной центральной власти, так как в противном случае она не будет функционировать должным образом, и страну будет постоянно лихорадить. Это хорошо видно на примере Кыргызстана, который пережил две цветные революции и этнические столкновение в южных регионах в 2010 году, а также сталкивается в последние годы с ростом влияния радикальных исламистских идей.
В то же время наличие сильного лидера всегда создает угрозу скатывания системы в авторитаризм и культ личности, что в свою очередь будет наносить удар по либеральной составляющей идеологического конструкции и негативно отражаться на свободах в обществе, экономике и взаимоотношению с Западом и иностранными инвесторами. Все это требует, конечно, отдельного исследования, выходящего далеко за рамки данной статьи.
Итак, все 1990-е годы элиты стран ЦА были сконцентрированы на государственном строительстве, на создании и внедрении национальных идеологических конструкций, нахождении более или менее эффективных форм управления. Поэтому в свете проблематики региональной интеграции возникает вопрос о том, а могли ли элиты в период становления независимых государств одновременно проводить работу также по созданию идеологического фундамента для региональной интеграции.
Если рассматривать данный вопрос с точки зрения, например, проблемы конструирования идентичности, то ответ будет, скорее всего, отрицательный. Даже при всем желании, элиты не могли создавать новую национальную идентичность и параллельно с ней новую региональную идентичность, поскольку эти два процесса имели отличную друг от друга внутреннюю логику.
Чтобы начать создание региональной идентичности, как одного из сущностных элементов региональной интеграции, необходимо наличие уже устоявшейся национальной идентичности и осознание населением отдельно взятой страны себя как единой политической нации, а этот процесс в 1990-е годы в ЦА только зарождался. Опыт создания Европейского Союза показывает, что ядро европейской интеграции составили именно те страны, которые уже имели прочные корни национальной идентичности. Общества этих стран также состоялись как политические нации, благодаря чему они и сделали осознанный выбор в пользу признания примата европейской супраидентичности как основы интеграции, и добровольно делегировали часть полномочий своих руководящих элит наднациональным структурам.
Тем не менее, руководящие и интеллектуальные элиты стран Центральной Азии в 1990-х, как нам кажется, все же сделали попытку совместить процессы строительства национальных и региональных идентичностей, хотя во втором случае это больше походило на простую декларацию наличия неких общих исторических, культурных, этнических, лингвистических и религиозных корней. Дававшиеся тогда определения общности никак не отвечали на такие фундаментальные вопросы как «Что представляет из себя феномен «центральноазиата»?», «Что это такое быть центральноазиатом?», «Чем он отличается от этнически и религиозно близких этносов, живущих южнее Амударьи или Копетдага?».
Как представляется, размытость в определении региональной идентичности была вовсе не случайной, поскольку элиты ЦА, по всей видимости, испытывали сложности с тем, какую из имевшихся на тот момент идентичностей сделать базовой для региональной интеграции, превратив ее в супраидентичность.
Принятие тюркской идентичности в качестве базовой для региональной интеграции создало бы угрозу потери баланса
Элиты стран Центральной Азии в поисках супраидентичности в 1990-х годах, апеллировали, хотя в и скрытой форме, к советскому слою идентичности, но сделать это официально они не могли, так как это высветило бы явное противоречие с целями и смысловым содержанием создаваемых ими идеологических конструкций, сфокусированных на создание новых независимых наций. В этих конструкциях история нахождения народов ЦА в составе Российской империи и Советского Союза кардинально пересматривалась, а многие события или деятельность различных национальных политических движений того времени трактовались зачастую в диаметрально отличном от дореволюционной или советской историографий ключе.
В кругах национальной интеллигенции 1990-х годов также делались попытки сделать ставку на тюркскую и исламскую идентичность, но и они в итоге не были приняты. Проблема была в том, что, к примеру, ставка на тюркскую идентичность сразу же исключала бы из процесса региональной интеграции Таджикистан и значительные массы населения, не относящиеся к тюркскому суперэтносу. Это, как если бы создатели ЕС выбрали в качестве базовой идентичности для интеграции германскую идентичность.
Принятие тюркской идентичности в качестве базовой для региональной интеграции также создало бы угрозу потери баланса в идеологических конструкциях стран ЦА с непредсказуемыми последствиями для их внутренней стабильности. Кроме того, она порождала бы несколько дополнительных сложностей, касавшихся реакции России, Ирана и Китая, которые могли усмотреть в нем элементы пантюркистского проекта. Известно, что Иран испытывает определенные сложности с азербайджанским национализмом, Китай – с уйгурским сепаратизмом, а России в 1990-е сталкивалась с проявлениями национализма и сепаратизма в Татарстане.
Аналогичные сложности порождала бы и исламская идентичность, которая диссонировала бы с воззрениями и ценностями носителей других религиозных учений и вызывала бы опасения в исламизации региона со стороны России, Китая, возможно, части либеральных кругов на Западе, а также сторонников светского устройства государств Центральной Азии. Ставка на исламскую идентичность также создавала бы угрозу смещения баланса внутри идеологических конструкций стран ЦА.
В 1990-е годы имела место попытка искусственного создания супраидентичности в виде концепции евразийства. Ее сторонником был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако, она носила абсолютно искусственный характер, распространившись лишь в очень узком кругу интеллектуалов, и к тому же, больше подходила для интеграционных проектов с участием России и в целом всех стран СНГ, чем для интеграционных проектов в рамках Центральной Азии. Таким образом, ни один из типов идентичности так и не был выбран в качестве базового для региональной интеграции в ЦА, что стало одной из причин ее провала, т.к. присутствовавшее ощущение общности народов ЦА не получило выражения на смысловом и вербальном уровне.
Нужно отметить, что основатели ЕС в отличие от центральноазиатских интеграторов имели дело с более простой ситуацией, так как они обращались к хорошо осознаваемой всеми народами Европы «европейской идентичности и общности». Конечно, европейская идентичность представляет собой крайне сложное понятие, вмещающее в себя множество исторических и ценностных измерений, но было важно то, что европейская идентичность как слой присутствовала в многоуровневой пирамиде идентичности у каждого народа Европы, т.е. и французы, и немцы, и чехи, и греки осознавали себя европейцами. Тема европейской идентичности была хорошо проработана интеллектуалами, что привело к тому, что даже простые люди могли дать более или менее четкое определение «человека Европы», его уникальности и отличности от других.
Для конструкторов ЕС проблема состояла лишь в том, чтобы обеспечить перемещение европейской идентичности из более низких уровней пирамиды на ее вершину, превратив в супраидентичность и идеологический фундамент интеграции. Важной, конечно, была и задача сохранить ее на вершине, что не всегда удавалось и BREXIT представляет собой показательный пример того, как европейская идентичность уходит в более низкие слои, уступая место на вершине пирамиды другим видам идентичности.
Блокировавшие региональную интеграцию 1990-х и начала 2000-х годов противоречия между намерениями и объективной реальностью наблюдались и в сфере экономики. Немаловажную роль в блокировании интеграционных устремлений сыграли неблагоприятные экономические условия, в которых оказались страны ЦА после распада СССР, а также разница в потенциалах их экономик. Известно, что страны Центральной Азии в советской плановой экономике занимали свои строго определенные ниши, и это было в принципе объяснимо, т.к. советская экономика функционировала как единый организм. Поэтому после распада Советского Союза и его хозяйственных связей все страны ЦА столкнулись с серьезными дисбалансами в структуре своих экономик и потерями рынков сбыта, что в свою очередь поставило под угрозу их внутреннюю стабильность.
Масштаб негативного эффекта от разрыва хозяйственных связей показывают цифры поставок чистого материального продукта из стран ЦА на начало 1990-х годов. Наиболее высокие показатели были у Туркменистана – 50,7% и Кыргызстана – 50,2%. Далее шли Узбекистан — 43,2%, Таджикистан — 41,8% и Казахстан — 39,9%. При этом доля их товарообменных операций за пределами СССР находилась в диапазоне от 10,5% у Туркменистана до 16% у Таджикистана при среднем показателе по Советскому Союзу в 45%[1]. Иными словами, страны Центральной Азии были в огромной степени ориентированы на советский рынок и именно поэтому весьма сильно пострадали от распада СССР. Неблагоприятным фактором также было то, что в поставках чистого материального продукта очень большую долю занимали поставки минерального и сельскохозяйственного сырья.
Экономический удар от развала Советского Союза был такой силы, что например, в казахской экономике даже к 2000 году не был восстановлен уровень производства, зафиксированный в 1990 г., а объем капиталовложений составил всего 29% от уровня 1990 г. Произошло сокращение ВВП почти на 20% к 1995 г. и фактическое обнищание населения, т.к. 39% казахстанцев имели доходы ниже прожиточного минимума[2]. Во многом схожая картина наблюдалась и в других странах ЦА.
Стартовых условий у стран ЦА для запуска полноценной экономической интеграции не было, что определило смещение фокуса с регионального на внерегиональные экономические пространства
В этих условиях странам региона необходимо было как можно скорее провести т.н. «догоняющую модернизацию» для создания новых отраслей экономики, рабочих мест в промышленности, сельском хозяйстве и секторе услуг, а также для диверсификации товарного производства и структуры экспорта. Однако все это требовало огромных по меркам региона финансовых ресурсов, инвестиций, знаний и свободного доступа на внешние рынки с высокой покупательной способностью, и вот здесь возникло первое экономическое препятствие, о которую споткнулась региональная интеграция, и которое породило целый ряд других сложностей. Суть этого препятствия заключалась в том, что ни одна из стран ЦА, включая Казахстан и Узбекистан как крупнейшие региональные экономики, на тот момент не могла стать источником крупных инвестиций, современных знаний и технологий для своих соседей. Рынки стран ЦА также не могли играть роль драйверов экономического роста и торговли в виду их низкой покупательной способности.
Если провести сравнение с европейской интеграцией, то на момент создания ЕС такие страны, как Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия входили в число ведущих экономик мира и крупнейших потребительских рынков, источником инвестиций, передовых знаний и технологий, обладали развитой финансовой системой и разветвленными торговыми связями. Подобных стартовых условий у стран ЦА для запуска полноценной экономической интеграции не было, и это в свою очередь во многом определило постепенное смещение фокуса их внимания с регионального на внерегиональные экономические пространства, где были нужные инвестиции, знания, современные технологии и рынки сбыта.
Вместе с тем, для получения доступа к ним центральноазиатским государствам необходимо было решить дилемму, связанную с вхождением в мировую систему разделения труда. Дело в том, что начало 1990-х годов охарактеризовалось ускорением темпов экономической глобализации. В этот период продолжился перенос производств из развитых в развивающиеся страны, рост международной торговли, расширение глобальных цепочек добавленной стоимости. Символом ускорения глобализации стало основание в 1995 году «Всемирной торговой организации» (ВТО). Естественно, что страны ЦА хотели стать частью мировой системы разделения труда, причем преимущественно в производственном сегменте. Это обосновывалось тем, что у них имелось высокообразованное население, богатые сырьевые ресурсы и доступ на рынок стран СНГ. Тем не менее, несмотря на указанные преимущества, им не удалось стать новыми мировыми фабриками. Инвесторы и компании из развитых стран предпочли вкладывать в страны Юго-Восточной и Южной Азии, Дальнего Востока и переводить туда часть своих производств из Европы и Северной Америки.
Против Центральной Азии сыграл в немалой степени фактор конкуренции со стороны соседнего Китая, который все 1990-е годы и в первое десятилетие 2000-х годов стабильно демонстрировал очень высокие темпы экономического роста. Средний рост ВВП КНР в период 1989-2017 гг. оценивается в 9,69%, а самый высокий показатель был зафиксирован в 1993 году — 15,4%[3]. Сильными сторонами КНР по сравнению с ЦА были более дешевая рабочая сила, низкие экологические требования, доступ к морским транспортным коммуникациям и грамотная политика государства в области привлечения и защиты инвестиций.
В дополнение к этому Пекин смог извлечь максимальные выгоды от вступления в ВТО в 2001 году. Цифры роста по ряду показателей просто впечатляют. Если на момент вступления в ВТО размер китайской внешней торговли был на уровне $509,8 млрд, то уже к концу десятилетия этот показатель увеличился до $3 трлн. За тот же период общий объем иностранных инвестиций в страну вырос с $46,8 до $105,7 млрд, а золотовалютные резервы увеличились с $212,2 до $2,85 трлн[4]. Одновременно в Китае бурно развивался средний класс, который обеспечил расширение емкости потребительского рынка, сделавшего страну еще более привлекательным торговым и инвестиционным направлением.
Конечно, было бы неверным утверждать, что иностранные инвестиции в производственный сектор стран ЦА не приходили. Они приходили, но их объем и качество не смогли обеспечить прорыва в экономическом и технологическом развитии, как это было в Китае. В этой связи, у ряда стран ЦА не оставалось практически иного выбора, кроме как начать все глубже встраиваться в мировую систему разделения труда в сегменте поставщиков минерального и сельскохозяйственного сырья, благо необходимая инфраструктура была создана еще в советское время. Логика подобного выбора была проста – полученные от экспорта сырья средства должны были обеспечить финансирование проектов в области промышленности, социальной и научно-образовательной сфере, т.е. послужить катализатором роста в других областях и обеспечить переход к экономике более высокого класса.
В Казахстане роль локомотива взяла на себя нефтяная отрасль. Несмотря на то, что мировые цены на нефть после 1991 года демонстрировали устойчивое падение, достигнув дна в $11 за баррель в 1998 году, Казахстану к 1997 году удалось добыть 25,8 млн тонн и тем самым повторить показатель 1992 г. После этого добыча нефти только росла, достигнув 74 млн тонн в 2015 г. Некоторое падение добычи на 1,4% в 2016 году было обусловлено присоединением Астаны к сделке с ОПЕК по сокращению добычи нефти, а также износом существующей инфраструктуры в нефтяной промышленности[5].
Усилению позиций нефтяной отрасли в экономике и как фактора участия Казахстана в мировой системе разделения труда в сырьевом сегменте способствовал также рост нефтяных цен. В конце 1990-х годов цены поднялись до $30 за баррель, а затем после начала американской военной операции в Ираке 2003 года они стали непрерывно расти до середины 2008 года, дойдя до отметки в $147 за баррель.
Показателем того, что Казахстан органично вписался в нишу поставщика сырья и в первую очередь нефти, стал масштабный приход иностранных инвестиций в добывающий сектор. В результате это привело к тому, что к 2013 году 73% всех вложенных в Казахстан иностранных инвестиций сконцентрировалось в нефтедобывающих регионах – Атырауской области (61,4%) и Мангистауской области (12,1%). Параллельно росла доля нефтегазовой промышленности в ВВП и экспорте. В период высоких мировых цен на нефть ее доля в ВВП доходила до 25%, а в экспортных доходах – 60-74%[6], [7].
Ставка на нефтегазовый сектор благоприятно сказалась на состоянии экономики Казахстана, которая не только смогла преодолеть кризис, последовавший после распада Советского Союза, но и превратилась в самую крупную экономику ЦА по показателю ВВП и доходам на душу населения. Это также благоприятно сказалось на внутренней стабильности и процессе становления новой казахстанской идентичности в элите и обществе. Символом позитивного перелома в экономике и обществе можно назвать строительство новой столицы в Астане.
Вместе с тем бурное развитие нефтегазового сектора работало против региональной интеграции. Основной поток казахстанской экспортной нефти направлялся в дальнее зарубежье и в первую очередь в Европу, и поскольку именно с европейского рынка поступала значительная часть стратегически важных доходов от экспорта нефти, то Казахстан стал кровно заинтересован в стабильности этих связей и их приоритетности. Это в свою очередь способствовало росту ориентации на Запад у значительной части формирующейся элиты. Усилила ориентацию Казахстана на рынки дальнего зарубежья также развернувшаяся «Большая игра» между Россией, США, ЕС и Китаем, которые настойчиво предлагали и продвигали свои маршруты экспорта казахской нефти на рынки дальнего зарубежья.
В принципе у Астаны в рамках политики наращивания добычи и экспорта нефти и не было иного выхода, кроме как ориентироваться на рынки дальнего зарубежья, поскольку рынок стран Центральной Азии был не способен потребить растущие объемы нефтяного экспорта Казахстана. С одной стороны он был крайне мал, а с другой, у ряда стран региона были свои крупные месторождения нефти и природного газа. В частности, Туркменистан сам был поставщиком нефти и газа, а Узбекистан взял курс на энергетическую независимость с опорой на собственные запасы природного газа.
Конечно, одной нефтью и другими видами сырья экспортная политика Казахстана не ограничивалась. Приток нефтедолларов и довольно либеральная экономическая политика привели к росту активности в других отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Частный бизнес укреплялся и был готов с начала 2000-х годов инвестировать в зарубежные проекты, и в этом разрезе, рынок ЦА для него представлял интерес, но он, как уже говорилось, был все еще слаб. Как раз тогда Астана и стала идти на интеграцию с Россией, которая была и остается ее главным торгово-экономическим партнером. Интеграция с Россией осуществлялась в рамках ЕврАзЭс (2001-2014 гг.). Привлекательность развития экономических отношений с Россией с начала 2000-х годов объяснялась общей стабилизацией ее политико-экономической системы после прихода к власти Владимира Путина и подъемом мировых цен на сырье, превративших российский рынок в один из самых привлекательных в мире для экспортеров и инвесторов.
В Туркменистане локомотивом экономического роста и фактором выхода из кризиса, связанного с разрывом советских хозяйственных связей также выступила нефтегазовая отрасль. На момент обретения независимости туркменские запасы природного газа оценивались в 2 трлн кубометров. Крупнейшим месторождением было «Давлетабад» в Марыйском велаяте, а главным направлением экспорта была Россия, куда газ поставлялся через систему газопроводов «Средняя Азия-Центр».
Ставка на экспорт природного газа в Туркменистане имела как схожие черты с нефтяной политикой Казахстана, так и фундаментальные отличия. Осью внешнеэкономической политики стала максимальная добыча и диверсификация маршрутов поставок газа. Поскольку главные рынки сбыта должны были находиться вне Центральной Азии, то естественно, что она стала интересовать Ашхабад в основном как элемент безопасного транзита. Часть получаемых от экспорта газа доходов направлялась в отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспортные коммуникации, электроэнергетику. Как и в Казахстане, символом этой эпохи стало масштабное строительство в Ашхабаде и областных центрах.
Вместе с тем, по мере роста доходов от экспорта газа, идея региональной интеграции для туркменской элиты все больше отходила на задний план, уступая место изоляционистским представлениям и выстраиванию отношений преимущественно на двусторонней основе. Поддержка населения этому курсу должна была быть обеспечена политикой предоставления ему государством некоторых социальных льгот. Надежды на то, что смена власти в Туркменистане после смерти Сапармурата Ниязова в 2007 году, а также первая волна мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., спровоцировавшего обрушение нефтегазовых цен, приведут к изменению философии туркменской региональной и экономической политики, не оправдались.
Консервации прежней политики способствовало, прежде всего, открытие в 2006 году гигантского месторождения «Галкыныш» возле г.Иолотань в Марыйском велаяте с запасами в 21,2 трлн кубометров газа и 300 млн тонн нефти. Вторым фактором стало начало реализации договоренностей с Пекином о строительстве сети газопроводов, которые давали туркменскому газу выход на огромный китайский рынок. Оба этих фактора дали Ашхабаду основание говорить о намерении нарастить добычу газа до 185 млрд кубометров к 2030 году и существенно увеличить его экспорт. Естественно, что данные намерения ни в коем случае не стимулировали желание туркменской элиты идти на полномасштабную региональную интеграцию.
Узбекистан также, как Казахстан и Туркменистан, использовал экспорт сырья как источник поступления валютных средств. Из всего объема экспорта почти $3,265 млрд в 2000 году доля хлопка-волокна составляла 27,5%, черных и цветных металлов — 6,6%[8]. Также экспортировался природный газ и продукты нефтепереработки. Однако, отсутствие сопоставимых с Казахстаном и Туркменистаном запасов углеводородов, заставило Узбекистан двигаться по пути развития промышленности, мелкого и среднего предпринимательства, фермерства, что, безусловно, заложило основы для качественно новой структуры ВВП и экспорта. К примеру, в 2000 году примерно 35,4% от общего объема импорта составили закупки необходимых для реформирования промышленности машин и оборудования[9]. Символом этого курса стало строительство в 1993 году в городе Асака Андижанской области автомобильного завода UzDaewooAvto (в настоящее время «ДжиЭм Узбекистан»).
Принятие Узбекистаном и последующее выполнение им обязательств по восьмой статье устава МВФ о конвертируемости национальной валюты по текущим операциям в 2003 году привели к впечатляющему росту экспорта. В период 2003-2008 гг. он вырос почти в три раза – с $3,7 до $11,5 млрд[10]. Конечно, существенный вклад в рост экспорта в стоимостном выражении оказал бычий тренд на мировых рынках, но оживление в экономике было очевидным. Поэтому, в соответствие с логикой развития производственного и перерабатывающего сектора, а также сектора услуг, Узбекистан должен был по мере укрепления своей промышленной и сельскохозяйственной базы выступить одним из главных двигателей региональной интеграции в ЦА, поскольку свободный доступ на рынки стран ЦА был бы лучшим стимулом для экономического развития. И действительно, Узбекистан по мере улучшения ситуации в экономике выступил одним из инициаторов создания Организации «Центрально-Азиатского сотрудничества» (ОЦАС) в 2002 году.
Однако, именно в тот период стал ощущаться растущий скепсис Ташкента по отношению к региональной интеграции, который со временем привел к приоритетной ставке на двусторонние отношения во внешней политике Узбекистана. Скепсис был вызван тем, что на момент создания ОЦАС регион как единый феномен уже стал показывать признаки кризиса. Так, к организации не присоединился Туркменистан, что уже ограничивало потенциал интеграционного проекта. В 2003 году Ашхабад также вышел из объединенной энергосистемы, тем самым, заложив основы для ее последующего распада, больно ударившего по экономическому единству ЦА.
С запуском реформ Мирзиеева стала возвращаться нормальная логика стратегического планирования, в которой долговременной целью обозначен прорыв в экономическом развитии, а безопасность начинает играть поддерживающую роль
Кроме того, произошло обострение отношений Узбекистана с Таджикистаном из-за вторжения боевиков т.н. «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ) в 1999-2000 гг. Эти два вторжения, а также террористические акты в Ташкенте 16 февраля 1999 года привели к серьезной трансформации в приоритетах внутренней и внешней политики Узбекистана, в которой на первое место все больше стали выходить вопросы обеспечения безопасности, зачастую в ущерб экономике и связям с соседями. Подобный подход доминировал вплоть до избрания президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева, с запуском реформ которого стала постепенно возвращаться нормальная логика стратегического планирования, в которой долговременной целью обозначен прорыв в экономическом развитии, а безопасность начинает играть поддерживающую роль, функцию инструмента по обеспечению стабильных условий для экономического развития.
Среди причин, вызывавших в начале 2000-х годов скепсис Узбекистана по отношению к региональной интеграции, можно назвать наступившее понимание ограниченности рынка большинства стран ЦА и их технологического и научного потенциала, которые не могли обеспечить экономического прорыва для всего региона. Решить проблему повышения потенциала могло только переосмысление модели интеграции и включения в нее других стран. Поэтому довольно логичным выглядело вхождение России в ОЦАС в 2004 году по приглашению Ислама Каримова.
В тот же период в регионе начал заметно меняться геополитический климат из-за растущего соперничества между Россией, США, ЕС, Китаем и Ираном, и страны ЦА начинают все активней использовать политику балансирования между центрами силы с учетом не региональных, а прежде всего своих национальных интересов. Все это накаляет ситуацию, что выливается в «тюльпановую» революцию в Кыргызстане и андижанские события в Узбекистане в 2005 году, которые в свою очередь становятся спусковым крючком для нового этапа геополитических игр. Естественно, что в подобных условиях говорить о полноценной региональной интеграции не приходилось. Именно тогда и произошло слияние ОЦАС с ЕврАзЭс, которое похоронило интеграционные проекты 1990-х и начала 2000-х годов.
Что касается Кыргызстана и Таджикистана, то их ресурсная и промышленная база в отличие от трех вышеуказанных стран была довольно ограниченной и в силу этого она не могла обеспечить их эффективного выхода из постсоветского кризисного периода. Они стали беднейшими странами Центральной Азии и поэтому вынуждены были искать любые источники доходов для выживания. Ими стали довольно небольшое сельское хозяйство, переводы от трудовых мигрантов, разработка месторождений природных ископаемых. Кыргызстан стал постепенно превращаться в реэкспортный центр китайских товаров, пытался привлечь туристов на курорты Иссык-Куля и взимал арендную плату за размещение на своей территории авиабазы НАТО «Манас».
Кыргызстан и Таджикистан большие надежды возлагали на экспорт электроэнергии, учитывая, что на их территории находятся истоки Амударьи и Сырдарьи, но планы строительства новых крупных гидроэлектростанций привели к резкому ухудшению их отношений с Узбекистаном, который считал, что они могут нести угрозу жизням и благосостоянию миллионов людей и сельскому хозяйству стран, расположенных ниже по течению этих рек. Данные противоречия в итоге стали еще одним препятствием на пути региональной интеграции. Однако, в целом, обе страны не были против вступления в различные объединения, такие как ЕврАзЭс, так как нуждались в инвестициях.
Совокупно вышеуказанные причины внесли свой вклад в итоговую неудачу региональной интеграции 1990-х и начала 2000-х годов. Однако с того момента, как ОЦАС ушла в небытие, прошло уже 12 лет, в течение которых регион прошел довольно серьезный путь, оставивший отпечаток на мировоззрении элит и населения, а также на моделях управления в политике и экономике. Изменились и внешние политические и экономические ландшафты, включая баланс сил в мире. Поэтому с экспертной точки зрения сегодня большой интерес представляет сравнение нынешних условий для возможного запуска проекта новой интеграции с теми условиями, которые были на момент первой интеграции.
С точки зрения вопроса супраидентичности важным отличием нынешней ситуации от 1990-х годов является факт уже состоявшихся политических наций в государствах Центральной Азии. Безусловно, процесс дальнейшего развития наций продолжается, поскольку продолжается миграция населения и на политическую арену выходит новое постсоветское поколение, но сам фундамент новых независимых наций и связанный с ними новый слой идентичности уже созданы, что не возможно не учитывать в разрезе проблемы формулирования центральноазиатской супраидентичности.
Еще одним отличием нынешней ситуации в этой сфере является то, что советская идентичность уже не может претендовать на эксклюзивную объединяющую роль даже в латентной форме. В свою очередь, тюркская и исламская супраидентичности по тем же причинам, что и в 1990-е годы, не могут быть взяты в качестве смысловой основы региональной интеграции. Все это говорит о том, что супраидентичность как сердцевину идеологии региональной интеграции все-таки придется основательно конструировать, ища ответ на ключевой вопрос о том, в чем же именно состоит уникальность центральноазиатской идентичности.
По нашему мнению, ответ, скорее всего, должен представлять собой определенную многоэлементную структуру, в которой, с одной стороны, будут представлены объединяющие элементы, а с другой, сглажены элементы противоречий через перенос фокуса на какой-то объединяющий элемент. Также эти элементы необходимо будет согласовывать с национальными идеологиями.
В данном случае имеет смысл опять обратиться к феномену европейской идентичности, в которой четко прослеживается многоэлементная структура. В объединяющих элементах представлены события истории, смены парадигм от традиционализма через модерн к постмодерну, элементы аксиологического характера и т.д., т.е. все, что укладывается в рамки «общности судьбы». В свою очередь элементы противоречий, например, исторических противоречий между католиками и протестантами, мусульманами и христианами, или между этническими группами, сглаживаются через отсылку к ценностям мультикультурного и полиэтнического общества, а также к логике исторического эволюционизма, которая объясняет исторические противоречия как этапы на пути к пониманию единой европейской общности. Обычно в качестве примера эволюционизма приводятся взаимоотношения между французами и немцами, которые исторически были очень сложными, но, тем не менее, именно эти две нации стали осью Европейского Союза.
При конструировании центральноазиатской супраидентичности одним из чувствительных вопросов может стать определение общего отношения всех стран к периоду нахождения в составе Российской империи и СССР. Без включения этого периода, конструкция супраидентичности будет неполной, поскольку часть истоков происхождения феномена центральноазиата лежит именного в том историческом времени. Известно, что Российская империя в результате Большой игры с Британской империей отрезала земли ЦА от единого континуума мусульманских территорий, а Советский Союз ввел их в эпоху модерна через его коммунистическую версию. Все это в итоге привело к возникновению явных культурных и ментальных отличий жителей Центральной Азии от жителей других мусульманских стран и регионов.
Кроме того, неотъемлемым элементом супраидентичности должны стать принципы и ценности идеологии либерализма, но с учетом традиционных ценностей и обычаев народов ЦА, т.е. должен быть найден продуктивный баланс, в том числе и посредством осуществления определенного продуктивного синтеза и создания симбиотических связей там, где это возможно. Учитывая, что региональная интеграция включает в себя экономическую интеграцию и создание общего экономического пространства, то для свободного движения капиталов, знаний, инвестиций, людей, товаров, защиты частной собственности, прав инвесторов, обеспечения принципов открытой и честной конкуренции лучше всего подходит либерализм. В современной истории это была фактически единственная платформа для добровольного объединения стран и народов в целях получения взаимной выгоды и развития, что показывают примеры ЕС и ВТО.
В этой связи в плане конструирования супраидентичности большие надежды вызывают нацеленные на общую внутреннюю либерализацию реформы президента Шавката Мирзиеева в Узбекистане. Если они закончатся успешно, то это позволит создать предпосылки для более уверенного и эффективного встраивания элемента либерализма в структуру региональной супраидентичности. Реформы, нацеленные на либерализацию в Узбекистане, также могут создать предпосылки для образования своего рода «либерального интеграционного ядра» в Центральной Азии, элементами которого станут также Казахстан и Кыргызстан, обладающие определенным опытом экономического и культурного либерализма. Именно между этими тремя странами сегодня наблюдаются наиболее быстрое сближение. Астана и Бишкек также являются членами ВТО, а Узбекистан в свою очередь зондирует возможность вступления в эту организацию, уже заручившись поддержкой США, Южной Кореи и Европейского Союза в области оказания консультативной помощи.
Как и в случае с первыми попытками региональной интеграции, при возможном осуществлении второй попытки критически важным станет вопрос экономических предпосылок для нее. Если конструирование супраидентичности ставит перед собой цель найти ответ на вопрос «Что у нас есть общего для того, чтобы объединиться?», то экономический аспект должен дать ответ на вопрос «Для чего нам объединяться?».
В этом плане, конечно же, представляется важным точно сформулировать долгосрочную цель, вокруг которой можно дальше строить осмысленную экономическую часть стратегии интеграции. Часто в качестве цели интеграции определяются создание единого экономического пространства для свободного движения капиталов, товаров, людей, идей и знаний, проведение согласованной политики в области пограничного и таможенного контроля, оборонной политики, культурный взаимообмен т.д. Однако, в действительности, подобные цели представляют собой или инструменты для достижения настоящей долгосрочной цели, или результаты, которые будут получены по итогам реализации долгосрочной стратегии интеграции. Наглядным примером могут служить цели, заявленные в свое время ОЦАС, которые, несмотря на свою внешнюю конкретность, тем не менее, в значительной степени представлялись размытыми.
Долгосрочной целью региональной интеграции в ЦА может стать совместное движение стран региона в Четвертую промышленную революцию (ЧПР)
Итак, что же может быть обозначено в качестве долгосрочной цели региональной интеграции в ЦА? На наш взгляд, такой целью может стать совместное движение стран региона в Четвертую промышленную революцию (ЧПР). Причем эта цель может быть обозначена не только как цель экономической интеграции, но и в целом как главная цель всего интеграционного проекта, вокруг которой будет выстраиваться долгосрочная стратегия, а также цели менее масштабного или вспомогательного характера.
Отличительной чертой ЧПР является то, что промышленное производство, энергетика, сельское хозяйство, города со всей их инфраструктурой становятся «умными» (smart). Это достигается за счет внедрения Интернета Вещей, искусственного интеллекта, Больших данных, роботизации, аддитивного и цифрового производства, которые в свою очередь коренным образом уже меняют структуру ряда национальных экономик и рабочих мест во всех трех ее секторах (добывающем, производственном и сервисном), влияют на систему образования, мышление, планирование, характер организации социума. Фактически, говоря о ЧПР, мы говорим о формировании нового вида рациональности.
ЧПР окажет огромное влияние на глобальную экономику и в частности будет деактуализировать или трансформировать такие составляющие экономической глобализации как офшоринг, аутсорсинг, глобальные цепочки добавленной стоимости, за счет чего поднялись многие развивающиеся страны в XX веке. Совершенствование промышленных роботов и как следствие удешевление выпускаемой ими продукции будет сокращать потребности в дешевой рабочей силе, на которую делают ставки большинство стран, желающих повторить путь Китая. Дальнейшее повышение энергетической эффективности, усиление позиций возобновляемой энергетики, внедрение стандартов низкокарбонной экономики и принципов «нулевых выбросов» (zero emission) и «нулевых отходов» (zero waste) могут внести существенные коррективы в рынок традиционных энергоносителей и поставок минерального сырья, в котором нашли свою нишу многие развивающиеся страны, в т.ч. и страны ЦА.
Повышение конкурентоспособности экономик в рамках ЧПР уже становится стратегической целью большинства развитых и ведущих развивающихся стран. Если мы возьмем тот же Европейский Союз, то увидим, что он активно пытается стать глобальным лидером, что видно, например, по запуску Европейской комиссией (ЕК) в апреле 2016 года «Стратегии единого цифрового рынка» (The Digital Single Market strategy), стоимостью 50 млрд евро[11]. ЕК также принимает множество стимулирующих мер для ускоренного перехода к новому типу экономики и новым стандартам. Это демонстрируют, например, предложения Европейской комиссии по снижению выбросов углекислого газа автомобильным транспортом на 30% к 2030 году для стимулирования развития автомобилей с гибридным и электрическим двигателем. Предложения содержат как меры поощрения, так и штрафы за нарушение норм выбросов углекислого газа. Иными словами, видны попытки ЕС заложить новую долгосрочную цель, которая придала бы смысл дальнейшему существованию этого интеграционного объединения и создала бы новые источники генерации смыслов и материальной выгоды для его стран-членов.
Таким образом, ЧПР, эпоха доминирования которой должна наступить в 2030-2040 гг., можно охарактеризовать как осевой тренд мирового развития. Поэтому, у стран ЦА фактически нет иного выбора, кроме как попытаться стать частью этого процесса. Альтернативой этому будет только прозябание на задворках научно-технического прогресса и упущение шанса повысить свое экономическое благосостояние.
Наибольшее понимание и внимание к развитию технологий ЧПР демонстрируют Казахстан и Узбекистан. Они же обладают и самыми развитыми в регионе научными школами и экономиками. Обе страны уже реализуют целый ряд инновационных проектов в области альтернативной энергетики и налаживают сотрудничество в области ЧПР с некоторыми технологически развитыми странами Запада и Азии. В Алматы действует “Tech Garden”, который претендует на статус казахстанской «Кремниевой долины», а в Ташкенте в апреле 2017 года был создан “Mirzo Ulugbek Innovation Center”.
В этой связи, если интеграция на основе ЧПР и будет запущена, то она должна будет носить поэтапный характер. На первом этапе ее осью могло бы стать сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном, которые также могли бы взять на себя разработку долговременной стратегии интеграции вокруг цели вхождения в ЧПР, состоящую из мер, условно объединяемых в две группы.
Первая группа мер должна сфокусироваться на создании благоприятных условий для совместного достижения целей ЧПР. Эти меры должны способствовать привлечению в единое пространство инвестиций, инновационных технологий, развитию стартапов, созданию цепочек добавленной стоимости в секторах ЧПР, многосторонних исследовательских групп, лабораторий и инновационных хабов, новых высокотехнологичных рабочих мест, рынков потребления новых продуктов и т.п. В данном случае критически важным будет нахождение наиболее эффективной формулы для обеспечения баланса между участием государства и наднациональных структур в ЧПР и существованием максимально свободной конкурентной инновационной бизнес-среды.
Вторая группа мер могла бы быть сфокусирована на создании единого торгово-экономического пространства, обеспечении свободного движения капиталов, товаров, людей, появлении рабочих мест в тех сферах и отраслях, которые напрямую не связаны с ЧПР. Повышение общего благосостояния людей и появление новых компаний создаст источники генерации и аккумуляции значительных финансовых средств, которые будут искать перспективные ниши для инвестирования и получения прибыли, и часть этих средств можно было бы привлечь в проекты ЧПР через ряд отработанных в развитых и некоторых развивающихся странах механизмов.
В частности, можно обратить внимание на развитие рынка «зеленых облигаций» (green bond market), которые могут эмитироваться компаниями, акционерными обществами и даже целыми городами для привлечения частных средств в развитие альтернативной и чистой энергетики, «зеленого транспорта», в повышение энергетической эффективности производств и жилого сектора. В Казахстане этот процесс создания рынка зеленых облигаций уже активно идет и им занимается Международный финансовый центр Астаны (МФЦА).
Подводя итог, хотелось бы отметить, что вопрос региональной интеграции, несмотря на его возрождение, в обозримом будущем все же будет в основном циркулировать в пространстве экспертных дискуссий и его переход к практическому обсуждению на высшем политическом уровне при самом оптимистическом сценарии состоится не раньше появления ряда необходимых условий.
В первую очередь, конечно, это условие выхода Узбекистана на устойчивую траекторию нового развития, а также результатов процесса обеспечения преемственности власти в Казахстане, который станет испытанием для казахстанской элиты. Немаловажную роль будут играть политические процессы в Кыргызстане. Мирная передача власти от Алмазбека Атамбаева к Сооронбаю Жээнбекову внушает большие надежды на то, что в регионе появятся предпосылки для появления устойчивого либерального ядра интеграции. Устойчивость властных институтов Кыргызстана также позволит улучшить инвестиционный климат в стране, продолжить процесс укрепления основ политической нации и эффективно противостоять проявлениям национализма и особенно росту влияния среди отдельных групп населения исламистских идей. В свою очередь участие Таджикистана в региональной интеграции будет зависеть от успеха политики президента Эмомали Рахмона по развитию экономики и борьбе с коррупцией, а также от обеспечения большей сбалансированности в системе управления за счет усиления либеральной составляющей.
Что же касается Туркменистана, то, исходя из нынешних условий, пока сложно говорить о том, что он может стать частью интеграционного ядра. Региональная интеграция, как об этом уже говорилось, как минимум, в ее экономическом аспекте будет требовать следования принципам либеральной экономики, как внутри страны, так и в отношениях с соседями, а также прозрачности границ для передвижения людей, капиталов, компаний и идей. На наш взгляд, Туркменистан пока не готов к этому в полной мере.
______________________________________________________________________________________________
[1]. С.Сафаев.»Составляя единой целое». 10.11.2005. http://www.pv.uz/uz/sostavlyaya-edi
[2]. Казахстан: причины и проявления экономического спада в 1990 годы. Институт экономики РАН, 01.08.2013. http://cc-sauran.kz/rubriki/economika/47-kazahstan-prichiny-i-proyavleniya-ekonomicheskogo-spada-v-1990-gody.html
[3]. China GDP Annual Growth Rate 1989-2017. Trading Economics. https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
[4]. Китайская экономика и внешнеторговая деятельность в цифрах после вступления КНР в ВТО. 12.12.2011. http://russian.mofcom.gov.cn/article/counselorsreport/201112/20111207873767.shtml
[5]. Добыча нефти в Казахстане в 2016 г снизилась на 1,4%, сокращение наблюдается и по газу. 16.01.2017. https://neftegaz.ru/news/view/157327-Dobycha-nefti-v-Kazahstane-v-2016-g-snizilas-na-14-sokraschenie-nablyudaetsya-i-po-gazu
[6]. Доля нефтегазовой отрасли в ВВП Казахстана снизилась с 25% до 17%. 15.06.2016. http://www.akhmadi-invest.com/2016/06/15/dolya-neftegazovoj-otrasli-v-vvp-kazaxstana-snizilas-s-25-do-17/
[7]. Экспорт казахстанской нефти достиг минимума за шесть лет. 19.05.2017. https://informburo.kz/novosti/eksport-kazahstanskoy-nefti-dostig-minimuma-za-shest-let.html
[8]. С 2000 года Узбекистан снизил внешнеторговый оборот со странами СНГ. 07.09.2017. https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/25931-s-2000-goda-uzbekistan-snizil-vneshnetorgovyy-oborot-so-stranami-sng.html
[9]. С 2000 года Узбекистан снизил внешнеторговый оборот со странами СНГ. 07.09.2017. https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/25931-s-2000-goda-uzbekistan-snizil-vneshnetorgovyy-oborot-so-stranami-sng.html
[10]. Двойной выигрыш: Что ждет Узбекистан при «открытой» конвертации. 07.06.2017. http://uz24.uz/opinions/dvoynoy-viigrish:-chto-zhdet-uzbekistan-pri-otkritoyq-konvertacii?page=2
[11]. Digitising European Industry. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry
CAAN. 31.01.2018